| Единственный способ спастись от хищника — |
|
[hideprofile]
Отредактировано Versus (07.04.21 19:27)
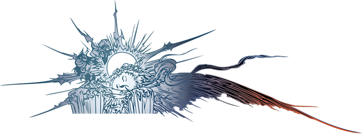
Versus |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
| Единственный способ спастись от хищника — |
|
[hideprofile]
Отредактировано Versus (07.04.21 19:27)
Проклятая печать — одно из его лучших творений; Орочимару без преувеличения испытывает глубокое удовлетворение от того, что он получил, разумно применив те гены, что их владельцу казались пагубными, отвратительными и убийственными. Но всякий яд при должной дозировке становится лекарством, как и лекарство, чей лимит превышен, способно стать кислотой, что уничтожает хуже болезни. Дьявол — в деталях, в точном и точечном подходе, для которого необходим холодный ум, твердая рука и необходимая доля безжалостности, что позволит испытывать, проверять и тестировать все варианты и вариации.
Да, наделение проклятой печатью — привилегия, прежде всего потому, что Змей тщательно отбирает каждого, кто будет носить на себе его метку и будет сосудом (даже потенциальным) для части его сознания или для него самого. Да, прежде отбор не был столь тщательным, как и должно быть на стадии испытания и проверки, но не теперь, когда живых носителей метки осталось ничтожно мало. Как и должно быть.
Проклятая печать — только для особенных. Для избранных. А сейчас — только для Саске, для единственного, чей потенциал для Орочимару особенно важен. Для единственного, чье развитие неимоверно значимо и как процесс и как результат, который Саннин получит в свои холодные руки по истечении срока их "контракта". Да, сейчас Саске уже почти контролирует печать, почти идеально входит во вторую фазу трансформации, взвешенно и дозировано отмеряя и чакру и ярость, что ей присущи. Холодный. Безжалостный. Выверенный. К о н т р о л ь. Как и подобает, как и должно (Саннин не сомневается в способностях и силе воли ученика) Учиха. Но... иногда что-то идет не так, что-то дает сбой, и в такие моменты Орочимару ликует, наблюдая за яростью и силой, которые не сдержаны ограничениями и внутренними лимитами. В такие мгновения Саске становится... чем-то иным, чем-то новым, невероятным, пусть и временно (но лишь будучи временным подобное и имеет значение).
Нет, дело даже не в сломе контроля, не в пустой и слепой ярости, не в жажде разрушения или животной силе (все это Орочимару презирает как слишком человеческое), но в том ином преломлении, что обретает Саске в подобные минуты. Словно в одной точке сходятся две противоположные силы, что рвут и тянут каждая в свою сторону, что раскрывают в Учиха те грани, что обычно приглушены и подавлены, раскрывают то, на что он не пошел бы обычно и никогда не пойдет вне контекста и желания получить силу, дабы сокрушить того единственного, кем занята вся его сущность.
Нет, Орочимару вовсе не кривит губы в ироничной усмешке, добавляя в сегодняшний состав чуть больше элементов и пару новых ингредиентов, которые, он знает, усилят влияние печати — дадут больше сил, как и желал бы Саске, верно? Нет, он не смотрит на Учиха пристальнее обычного и не отпечатывает его в своих липких зрачках, когда провожает на тренировочную площадку, на которую собрали сегодня сильнейшие его эксперименты. Нет, он не вцепляется в лабораторный стол в нетерпении, жадно следя за тренировкой через плотное стекло, к чему эти ограничения? Орочимару там, в гуще событий, вдыхает жадно пыль, что поднята в воздух резкими и неумолимыми движениями, облизывает губы, когда на них попадает чужая кровь и улыбается торжествующе, ликует, когда подопытные — дичь на заклании — падают на утоптанную землю замертво.
Нет, это не месть, нет, это не его подарок Саске, не демонстрация того, как (насколько) легче и проще идти вперед, когда не_оглядываешься, когда не считаешь и не придаешь значения ничему кроме себя и той цели, что ведет тебя. Проще — переступать тела, проще — не считать чужие жизни, проще — не думать о том, что способно задержать тебя на пути, не лечить и не перевязывать чертовых косуль или девчонок, что так опрометчиво падают под ноги. Без расточительства, но и без сантиментов, дабы отыскать во всю золотую середину.
Завораживает. Саннин прикрывает глаза глотает последние крики и вслушивается в тяжелое дыхание, улавливает не гаснущее бешеное, абсолютно ненормальное сердцебиение, что гонит по телу кровь и адреналин. Ему не нужно смотреть, чтобы видеть застывшую в центре поля фигуру, распахнутые крылья и потемневший взгляд, что проясняется медленнее обычного, вырывается из оков неохотно, будто застывает в вязкой жиже поглощающей его жажды. Орочимару не двигается и ждет, как затаившаяся перед прыжком гадюка, смотрит чем и когда закончится эта борьба, какой будет ее результат и... итог. И лишь после спускается на площадку, чтобы мягко коснуться чужой щеки и прошептать в закрывающиеся глаза и гаснущую радужку:
Я ведь говорил, Саске-кун, у всего есть последствия.
Саске не мог остановиться.
Что-то пошло не так.
Он ощущал это, но сделать мог ровно ничего; всё продолжало идти не так.
Словно бы с самого начала — с самой той ночи — было как-то иначе.
Вероятно, было.
Сила. Это то, что всегда давала метка. Одуряющая, ощутимая, пьянящая, очевидная. Сила, что, вопреки мнению несведущих идиотов, давалась не просто так, буквально являя собой борьбу инородного с телом; не на жизнь, а насмерть. Борьбу, что впитывалась в генетический код, отравляла кровь и видоизменяла реакции в мозге. Силу, что требовала контроля и имела временной лимит, в противном случае обращаясь в саморазрушение и смерть. Сила, на которую Саске делал определенные ставки и которая непременно пригодится ему в битве с Итачи. Сила, которой ему было по-прежнему мало. Всё ещё, как всегда, неизменно.
Даже без использования возможностей метки Саске способен уложить целую армию; с её силой — две или три. Однако Итачи мог уложить пять. Десять. Всех. Шарингнаом, дзюцу, ближним боем, умом — он совершенный шиноби, машина для убийств. Потому младший Учиха не мог останавливаться, не мог оказаться слабее, если стать сильнее старшего попросту невозможно. У него не было Мангекё — младший брат выбрал другой путь вовсе не потому, что не смог убить того придурка, а по причинам иного, личностного порядка — и потому требовалось иметь как можно больше козырей, чтобы перекрывать сильнейшие техники легендарных глаз. Учиха не знал о них, ограничиваясь "они существуют", но предполагал, что это должно быть нечто не просто эпичное, но абсолютное. Значит, от него потребуется двойной, если не тройной абсолют. И никакой пощады, в первую очередь по отношению к себе.
Как же чертовски много времени упущено, как же глуп, слеп и наивен был Саске; идиот, у него почти не оставалось времени теперь, а успеть ещё нужно было так много. Так, чёрт подели, много. Непосильно, невозможно, но единственно избранное. Нет силы, раз уже нет глаз — и всё не имело смысла.
Больше силы. Больше. Больше.
Сколько вынесет, сколько вытерпит.
Плевать на физическую боль — Саске выносливый; все мучения от неё пойдут на алтарь ненависти, укрепят её и никогда не смогут перекрыть боли душевной, что хуже любых мучений и пыток.
А потому они пробовали многое. С меткой, без метки, вообще плевать: Саске нужно было всё. И если уж речь зашла об этом знаке отличия, что вынесло и адаптировало его тело в совершенстве, то пользоваться ею Учиха научился. И не только тем, что делало его физически сильнее, быстрее, внимательнее и резче, но и тем, что давало недостающее — самоуверенность; иронично, что это так важно для такого как Саске, не так ли? Иронично, что его отсутствующее право на собственную личность, на собственное признание, на оценку собственных успехов, вбитое ему в спинной мозг едва ли не с умением бегать, убиралось... таким способом. Такой ценой. Быть может давало даже больше самой силы, позволяя поверить и раскрыть резервы, на которые в действительности был способен. А может быть и нет. В любом случае, даже здесь Учиха не скупился и платил сполна, не жалея себя и жадно на всё соглашаясь.
Контроль. Он был в кармане, каждый день, всегда; но не полный. Когда речь пойдёт об Итачи, бесстрастии и безжалостности, когда бой будет не просто насмерть, на на всё, всего со всем, контроль Саске должен быть абсолютен. Над собой, над чакрой, над временем, над старшим братом, над меткой. Ему не должно беспокоить изобилие отпечатков на шарингане, послевкусие силы; ничего. Потому на большую часть того, что предлагал Саннин, хотя или нехотя, а юноша соглашался. И подозревал — скорее даже знал — что Орочимару не раскрывал ему всей правды касательно того, что делал и чем пичкал, но... имело ли это значение? Если Саннин угробит и износит это тело ещё до того, как оно станет его — это будет иронично и бессмысленно, в то время как Саске главное дотянуть до Дня Х [как, снова, иронично когда-то будет узнать, что Итачи точно также этим и занимался, оттягивая полное разложение да пичкая себя чем придется]. На остальное плевать.
Наверное, сегодня что-то вышло из этой серии. Но проблема в том, что соображать об этом Саске оказался... не способен. Категорически. Никак. Его накрыл голод и кураж — вместе с ними и сила — такой мощи и такого давления, что, заигравшись и увлекшись, он оказался не в состоянии ни остановиться, ни взять себя под контроль. Если бы жертвы — они были сильнее обычного, отчего-то Саннин не поскупился на лучших из лучших — не кончились так быстро, если бы их трупы были пригодны для чего-то ещё, Саске непременно бы это сделал. Однако заместо желания и попыток — они были — вернуться назад, остановиться, залитые чёрными глаза голодно искали кого-то ещё.
Убивать. Рвать. Дайте сюда Итачи — пускай видит, что стало с его братом; на что он пошёл ради него, ради его просьбы, установки, приказа. Ха-ха. Саске не мог — глубоко внутри желал — остановиться, однако очень чутко ощущал, что с этим "не мог" что-то происходило с его телом. Саннин ведь говорил, что если пробыть в печали слишком долго, она начинает захватывать, а после разрушать оболочку, отравлять тело, разум и...
По Саске буквально разливалась и пульсировали что сила, что решимость; однако одновременно с тем лихорадило, тошнило и жгло. Особенно — глаза и руки как наиболее чувствительные задействованные участки кожи. Сбросить печать не получилось; Учиха разве что сумел спрятать крылья, частично откатившись до первой ступени, хотя на деле застрял где-то между. Голову сдавливало, палило, крутило. Фокус во взгляде терялся, сердце бешено билось.
Единственное, что он успел словить взглядом — это фигура Орочимару, к которой поспешил в момент приблизиться. Уже даже было резко протянул когтистую руку, чтобы рывком перехватить за шею — вообще-то это в его полу-бредовом понимании значило "спросить что проходит", но... Тело сказало: "Я всё" до того, отправив то ли сознание, то ли всю тушку в отключку.
****
Можно было сказать, что Учиха пришёл в себя и... нет, вообще-то нельзя. Он, конечно, очухался, вроде как не умер, однако назвать себя сознательным, осознанным или вменяемым не мог. Его лихорадило, изнутри выкручивало. Сердце и легкие судорожно содрогались, руки тряслись, но что самое ужасное — не получалось контролировать зрение совершенно, как и словить свое место во времени и протестантстве. Агрессия и отчаяние, боль, что-то совершенно невменяемое... буквально исцарапав-порвав когтями всё, что только можно, изничтожив покрывало, казалось, из раза в раз сдирая с себя кожу, что продолжала зарастать, но на несколько оттенков темнее прежнего, он скрутился в позу эмбриона [может быть его хватит полежать так на пару минут], сжимая свои колени буквально до кровавых потеков, кусая губы. Потея, не ощущая реальности и по собственным ощущениям словно бы находясь во тьме; не холодной, а обжигающей, душной, липкой, невыносимой, лишенной что кислорода, что выхода.[nick]Uchiha Sasuke[/nick][icon]https://forumupload.ru/uploads/0019/e7/78/1070/181561.jpg[/icon][lz]<center><a href="http://versus.rolka.su/"><b>Учиха Саске</b></a></center>эта кровь не стала козлом отпущения; эта тьма не была хаотичной.</a>[/lz]
Следы от когтей на шее саднят и напоминают о себе, но Саннин не обращает на них внимания, как и отмахивается от взволнованного вопроса Кабуто — не важно, не имеет значения. Куда важнее и куда нужнее сейчас уделить все внимание Саске, перенести бездыханное-бессознательное тело с тренировочного полигона на его собственную кровать, устроить удобнее и... ждать. Рассматривать, разглядывать, смаковать моменты прошедшего боя, моменты чистой и животной ярости, что стирала в Учиха все надуманные и лишние границы, делая его... нет, не совершенным, но обнажая и выводя на поверхность ту, вторую, отвергаемую и упорно игнорируемую часть.
Такого ли результата ожидал Саннин, когда осознанно перебарщивал, осознанно доводил до пика? Возможно, но лишь в общих чертах, ведь метка непредсказуема, уникальная для каждого, даже если в основе своей одинакова. Змей мог знать то, с чего все начнется, но не чем все закончится. Печать добирается до самой сути, черпает из внутренних резервов, что связаны с природным, с тем самым "сен", что Орочимару так и не постиг (лишь из-за недостаточной физики, не более), а потому сотрясает и самые основы личности, повергая их в хаос становления раз за разом. Чем и хотел воспользоваться Саннин, не взирая на сложности и опасности. Да, без ведома Саске, но с его молчаливого попустительства, с его добровольной отдачи и безразличия к своему телу-сосуду. Да, метка это жульничество и, как всякий легкий путь, она берет очень высокую плату, но и дает ничуть не меньше, стоит только принять... Как приняла некогда четверка звука или Кимимаро. Метка не только дает силу, но и раскрывает потенциал, также, как и потенциал всякой печати можно раскрыть шире, если об этом задуматься, сделав ее частью себя.
Но для Саске (в мыслях Орочимару, в его взлелеянных и желанных образах) это могло дать гораздо, гораздо больше и вне состояния трансформаций. Вечно сдержанный, вечно зажатый в тиски своей цели, он не переносил это состояние проклятой печати во вне, в свою повседневную жизнь, давая себе волю лишь под предлогом трансформации, которую тоже жаждал взять под тотальный контроль.
—Тебе стоило бы принять это свое состояние, Саске-кун, ведь оно открывает лучшие стороны тебя. Дает тебе то, чего ты лишен. Какая жалость. — тихий шепот и холодная ладонь на пылающей жаром коже сейчас без ограничения и отторжения, можно касаться сколь угодно долго. Да, Саннин прекрасно понимает, знает, что происходит с Учиха, знает, как тяжело переживается затянувшаяся трансформация, знает о всех рисках, проблемах и опасностях, но рискует. Намеренно. Осознанно, доводя юношу до пределов контроля. Зачем? Там, где предел, так, где границы — непременно и их расширение, преодоление и слом. Разве не этого так отчаянно жаждет Саске? Разве не желаемое (в своем, личном преломлении) предлагает ему Орочимару?
И вот, уже наглядный прогресс, что даже в подобном состоянии, даже в подобной лихорадке жара, воля Учиха позволяет ему перебороть и переломить животную волю печати наполовину, подчинить ее и начать переваривать. Ассимилировать. Да, с кровью, со страданиями, с невыносимыми муками, но... с затмевающим все результатом. Орочимару ликует, торжествует, следит из темноты пристальным и голодным взглядом за тем, как выгибает на постели юное тело, как беснуется его подопечный, не в силах изжить и побороть остатки печати и того допинга, что еще бродит в теле, легко и быстро. Печать не дает ему целиком взять себя в руки, подчинить себе рефлексы, инстинкты и то внутреннее, жадное, сильное, (все)сильное, так нещадно и успешно подавляемое день за днем.
— Разве ты не прекрасен таким, Саске-кун? — Змей кружит вокруг, разбегаясь сотней теней по темным каменным стенам, дробясь на кусочки в свете единственного тусклого светильника, от которого и глаза (черные и переполненные), и кожа юноши кажутся темнее, глубже и изломаннее в его болезненной муке, — Когда условности не довлеют над тобой, когда все, чего ты хочешь и жаждешь может быть озвучено. Когда это даже можно получить.
Слова юркими змеями пробираются прямо под кожу, становятся ядом, который — Орочимару смеет только надеяться — достигнет сознания. Он следит и ждет, смотрит, что победит, воображает, что печать насытит и заполнит те трещины в личности, что так упорно закрыты, недоступны и игнорируемы Саске, что в этом состоянии он услышит то, что Орочимару желает ему сказать, желает до него донести, желает сделать его частью.
Змей ждет, когда беснование стихнет и успокоится, бережет себя от чужой ярости и острых когтей, от чужих ярких кошмаров на грани сна и реальности, но впитывает их жадно и полностью, не отрывает глаз и, если бы только знал, что шаринган запечатлевает образы навечно, вырвал бы любые, вшил бы в собственные глазницы, лишь бы только не забыть ни единой детали всего происходящего.
Все стихает. Временно и относительно, но и до того не слишком статичный, Саннин приходит в движение вновь.
— Саске-кун, — Орочимару подходит ближе, цепляется взглядом за острые выступы позвоночника и сведенные лопатки, на которых алеют шрамы от втянувшихся крыльев, опирается коленом о чужую постель и кладет ладонь на ребра, высчитывая загнанный пульс под влажной от пота кожей, улавливая тяжелое дыхание, что с усилием и хрипами заполняет содрогающиеся легкие. — Прими это. Чем больше борьбы, тем больше и боли. Разве не легче так, как было на тренировке, разве не проще? Ты станешь сильнее и безжалостнее, переломишь условности и станешь сильнее, как и желал. К чему эта бессмысленная борьба?
Завеса темных волос скрывает их от единственного источника света, но Орочимару видит изможденное и измученное лицо Саске совершенно отчетливо и для его совершенно звериных, голодных глаз, нет зрелища прекраснее. Нет знания слаще чем то, что муки эти не пройдут без следа, что вольются в глаза алыми искрами и отпечатаются там навеки, пусть малой долей, но его, только его влияния.
Дурно от самой необходимости дышать. От самое необходимости ощущать прикосновения чего бы то ни было к своей коже, что то ли раскалена, то ли успела остыть. Ему душно. Тесно. От самого и в самом себе. Выносимо — жив ведь ещё, значит не за гранью, но где-то рядом. Это как та самая форма боли, что не дает отключиться, не даёт умереть, но подолгу мучает, испытывая невозможность ни перестать ощущать, ни переключиться, ни как бы то ни было её прекратить или хотя бы ослабить. Иначе бы Саске это уже сделал.
— Ты ничего... не по... нимаешь, — чужие слова доносятся сквозь несколько пузырей реально си, искажаясь и доходя с трудом; словно приходится разбирать, и это раздражает, потому что даже мыслительный процесс — это боль. Каждое действие — боль, всё есть боль. Та самая, сторукую ты не в состоянии контролировать. Зато Саске глухо рычит, пытаясь хоть сколько-то подчинить тяжелое, утробное, нездоровое дыхание внутри пылающих лёгких.
Прикосновение к ребрам и касание волос с одной стороны не ощущается чем-то физическим, материальным, прикосновением как таковым, осязаемостью; но лишь раздражением кожи, что выводила и бесила сама себя, чем-то ещё. Подобно мухи, что, в общем-то, не мешает, ничего не сделает, летает себе, жужжит, иногда садится на еду или плечо, а потом всё равно улетает.
Но для Саске это — ничего, пустяковое — слишком много сейчас, он являлся одним натянутым оголены проводом, переполненным реакциями, рефлексами и, конечно же, болью. Потому всё те же рефлексы сработали на положенной им скорости: муха может летать, а может быть прихлопнула. Прихлопнуть — и больше не станет жужжать или садиться; никогда; в принципе. С одной лишь разницей: к этой мухи имелись хоть какое-то предположения и возможности повлиять на боль. Потому... Чёрт, ублюдок.
Резким движением он перехватил чужое белесое запястье по-прежнему когтистой, застрявшей где-то между стадиями или выйдя во что-то новое рукой, сжимая сильно и совершено не думая, не беспокоясь и не заботясь о том, что может сломать его, выкрутить или ещё чего. Будет хорошо, если так, а змей достаточно больной, чтобы этого не заметить, обрадоваться или пришить себе ещё три руки, если посчитает это нужным по какой-то причине. Однако чего хотелось, так это передать ему хотя бы каплю этой боли. Окунуть хотя бы немного. В то, что стало перед глазами Саске, в то, что испытывало его тело, в то, что творилось с его разумом. Сам же он, резко перевернувшись на спину, продолжал выкручивать перехваченное запястье, подтянул к себе Саннина ни то за ворот, ни то за волосы. Плевать. Глаза по-прежнему залиты тьмой, в которой сверкала силы ненависти, взращенная на потомственном проливании крови и памяти самых отвратительных моментов, что отпечатывались в этих глазах.
— Ты единственный, кого здесь можно убить... прямо сейчас, — неизменным глухим рычанием, неизменно тяжелым дыханием. Факт: ни единой живой души более. Не на кого более. — Когда... это закончится? — между шипением и рыком.
О, конечно, Саннин — посмотрите в эти глаза извращенной души или то, что остается на её месте таковой при продаже души за какие-то там цацки о бессмертии — получал от происходившего непомерное удовольствие. Это всё — конечно же его вина. Это всё — его рук дело, и если хоть что-то Учиха сейчас способен был понять, так это сие. И ему невыносимо хотелось прикончить Саннина, порвать его к чёртовой матери, растерзать. Он бы сделал это уже следующим навыком, вот только... слишком просто. Слишком быстро. Это не уймет боли Саске, не уймет того, на что он пошел ради своей цели, не уймет его ненависть, злость... не окунет никуда, чтобы Орочимару не испытывал от "окунаться".
Глаза полыхают тем, что невозможно игнорировать, на что невозможно не смотреть, чем невозможно не оказаться загипнотизированным. Самое не статичное и живое, что было в Саске — это его чёртовы проклятие глаза; всегда. И даже сейчас, когда руки брал тремор, несмотря на распирающую силу, когда легкие готовы были сгореть вместе со всем остальным... даже сейчас они оставались концентратом его жизни; демонстрацией того, куда шло всё умершее и ради чего он, собственно говоря, умирал. И это растекалось сейчас тьмой кругом, из которой не выбраться; пускай Орочимару даже не пытается. Ему нечего противопоставить этим глазам. Он сам стремился заполнить их. И накачал Саске тоже. Чем, похоже, неизменно гордился. Ползучая, потершая всякую человечность мразь.[nick]Uchiha Sasuke[/nick][icon]https://forumupload.ru/uploads/0019/e7/78/1070/181561.jpg[/icon][lz]<center><a href="http://versus.rolka.su/"><b>Учиха Саске</b></a></center>эта кровь не стала козлом отпущения; эта тьма не была хаотичной.</a>[/lz]
Руки ощущаются фантомно как чужие, как пустота, которая и есть и нет ее одновременно. Обычно это злит Орочимару: ежедневно, ежечасно и ежеминутно он ощущает свою потерю ее не-ощущением, не может и на минуту забыть, чего лишился и что у него забрали, а потому и чужого тела желает тем сильнее, чем ощутимее не-боль и не-наличие отнятых Хирузеном рук. Когтистые пальцы на запястьях оживляют мертвые нервы, пронзают разрядами острой боли, что слегка расцвечивает привычную ноющую и Орочимару улыбается близко к удовлетворению, вглядывается в чужую эмоциональную вспышку, любуется, но ещё не тем желаемым, к которому стремился, затевая все это. Проявлять свои эмоции, свою жёсткость, свое скрытое раздражение — Саске умеет. Особенно к Орочимару. Потому что Змей легко позволяет и легко провоцирует на это, потому что сам напрашивается, всякий раз исследуя те пределы, до которых может дойти подопечный. Но все это — не то. Саннин мишень для подобного удобная, почти податливая, тем паче что получает от происходящего удовольствие, но вовсе не та, что развила бы в Саске что-то сверх его обычной нацеленности. Как бы не растягивались в хищной улыбке губы, как бы не сверкали в темноте золотые глаза напротив тех, что залиты чернотой и ненавистью (не к нему, не к Орочимару вовсе), все это было не тем, не желаемым, помимо прекрасной и сладостной картинки.
В Саске от этого ничего не менялось и поменяться не могло.
Но... Что-то было, что-то в черной радужке клубилось и назревало, что-то вытащенное на поверхностью болью и раздражением, от чего проступившее было на лице Змея разочарование треснуло и осыпалось, проступив в сухих чертах голодным любопытством.
— Когда ты только пожелаешь, Саске-кун, — сладко и обнадеживающие выдыхает Орочимару, податливо прижимаясь лбом к чужому, пылающему, вглядываясь в провалы черноты на всегда прекрасном — даже сейчас, даже в искажении, даже более чем обычно — бледном лице, — Все зависит только от тебя, от твоих желаний и от того, как быстро ты поймёшь то, что я хочу тебе сказать.
Саннин не издевается, говорит искренне и как есть, даже с заботой о том, чтобы Саске поскорее понял свою роль, свое назначение и причины, по которым Орочимару делает то, что делает. Сопротивление бесполезно и бессмысленно — он не отступит, не теперь, когда на него изливается столько внимания; не тогда, когда от этого зависит то, насколько лучше станет его будущий сосуд.
— Мое убийство не даст тебе ничего, Саске-кун, — в тихом смехе Саннина мелькает незаметная усмешка, они очень близко и тесно, так, что он способен уловить рваное дыхание и даже почувствовать загнанный стук чужого сердца. — Ничему не научит, ведь дастся тебе почти без усилий, правда? Я ведь не косуля. — В шипении откровенная издёвка и прямой намек. На слабость, на неумение, на невозможность. Быть может, знай Орочимару о Шарингане чуть больше, он бы понял? Нет, не его жестокая и прагматичная душа была бы способна принять подобное. Он понимал лишь силу и только ее мог ценить, не имея больше тех душевных качеств, что отозвались бы на замкнутые в круг видения собственных кошмаров. Или веря в то, что их больше нет.
— Посмотри, — Саннин поднимает собственную руку, зажатую в тиски чужой хватки, сужает и расширяет зрачки, словно и сам не может определиться, чего в нем больше — возбуждения или острого и прагматичного интереса, — Посмотри от какой силы ты отказываешься, Саске-кун, — плоть под когтями покраснела до алых полос и кое-где лопнула, сочась густой до черноты кровью, от легчайшего прикосновения — осознанно и ради чего?
Может ли Саске умереть сейчас? Возможно. Он близок к этому, этот вариант Змей не отбрасывает, но даже так — продолжает. Надеется на лучший исход и результат того, что запланировал. Упивается чужим убийственным вниманием, пусть даже это не то, не та планка, которую Саске нужно перешагнуть, но этого довольно для сиюминутного удовольствия — быть под прицелом чужих переполненных глаз, что сейчас почти целиком в его, Змея, власти. Он ещё нужен Саске и Саске ещё слишком сдержан, ещё слишком цепляется за что-то, ещё слишком не-пуст (даже если Орочимару и не жаждет в нем этой пустоты, но и она привела бы у желаемому им результату).
— Расскажи мне, что ты чувствуешь? — свободная рука легко касается щеки, ведёт вдоль скулы к самым глазам, но не касается ни век, ни ресниц, лишь самого уголка у края чернильной злобы. И белая как бумага кожа Змея почти сливается с той бледностью, что охватила и Саске.
Дыхание тяжелое-тяжелое, как и грудная клетка. Словно баллон, накачанный воздухом, что одновременно с тем грузнее кирпича или риса; разрывает вовнутрь и наоборот. Вздымается туда-сюда, туда-сюда, отдавая да постукивая в висках, оттуда растекаясь дальше, тянуще-режуще. Горит, холодит, снова горит; в итоге — прожигает, вот только кожа не слезала, кости не трескались, это всё где-то за гранью видимой физики и фантомного. И оно неконтролируемо, спонтанно. Давало и забирало фокус, раздражало и, всё-таки, правда являлось очень болезненным. Даже для выносливого и привыкшего к боли Учиха Саске. Настолько, что сие выматывало и действовало на нервы; почти толкало и почти делало готовым выпустить что угодно, лишь бы оно прекратилось. Или ослабло. Или вернуло ощутимую часть самообладания. Вот только пока ситуация не улучшалось: подростку неизменно больно, неизменно тошно, неизменно умирал; как минимум по ощущениям.
— Чего ты хочешь от меня, Орочимару? — рык сквозь тяжелое, не томное вовсе, а подобное забитое печи дыхание, в то время как чужие руки выкручиваются с остервенелой силой. Ни то чтобы вsтянуть желаемые ответы, ни то что-ты как-то уменьшить боль собственную чужой, ни то для... перекрытия страданий каплей удовольствия? Ведь чужая кожа рвалась, мышцы лопались, составы выкручивались, кости издавали звуки совершенно ненормальные, а в то время как пальцев Саске не разжать — они намертво вросли в чужие конечности вместе с когтями, что сейчас являли собой десяток ножей.
— Ты путаешьс-с-ся, — эти самые пальцы с этими самыми когтями поднимаются выше по рукам, выше локтей, до самых плеч, вздрагивающими, горячими, безумными и цепкими касаниями оставляя за собой рассеченный след. — Ответы или без контроля, ответы или вопрос, или без контроля, — глухо, потому что собственные лёгкие, кажется, заполнились ни то каплями воды ни то крови, ни то воздуха, заставляя захрипеть. Но не остановиться.
Саннин там много говорил о том, что Саске безжалостен, так часто упоминал о том, чего ему не хватало... Желанно хотел, вожделел, слюнявил, облизывал, мечтал, вытягивал, уговаривал, уламывал, аргументировал и ещё с десяток глаголов — и всё об дном и том же? Что же, его взяла. На нём же самом. Учиха просто больше не мог; терпеть каждую секунду, что за три. О, нет, это по-прежнему не Цукиеми брата, но боль совершенно и абсолютно физическая, оттягивающая на себя абсолютно все ресурсы и не оставляющая места больше ни для чего. Лишь боль, боль, БОЛЬ, б о л ь, дурная, стильная, затрагивающая все раздражители, заставляющая злобу, агрессию и жестокость вскипеть как неженственная доступная реакция; ослепнуть внутренним зрением, переключиться на рефлексы, выпустить это всё, чтобы отпустило хотя бы на каплю. Или перешло на другого, поделившись этой агонией, этим нескончаемым Адом.
— А я зато... — неразборчивый рык-хрипение-кашель-глухой-смех, рывок, и Орочимару оказывается на месте Учиха, вдавленный в местами разобранный матрас. Тело Саске мелко дрожит, потеет, ему очевидно нездорово и неописуемо дурно, однако сквозь это пробивалась сила, голод, жажда. — О... прав ты, — какой-то непонятный что тон, что слова, в то время как по лицу растянулся оскал. Хищный, не сдержанный, а зрачки шарингана сузились, пока кровь в пальцах, висках и во всём теле пульсировала.
На деле — это секунду, доли секунду, но весь порой время может ощущаться совершенно не таким, каким являлось на самом деле, не так ли? Саске хотелось сделать больно. Ему хотело рвать. Ему хотелось чувствовать запах крови. Он мог это делать. Он не намеревался останавливаться. Вероятно, точно также хищникам хотелось рвать, животным есть, а мужчинам брать женщину — в Саске не было ничего кроме желания, рефлексов и возможности. Всё.
Руки ни то выкручены и переломлены до безвольности, ни то оторваны к чертовой матери, однако кругом кровь. Саске в ней, Саннин, матрас, ткань: прекрасно. Рука Саске же уже лежит на шее, сжимая острыми когтями у челюсти. Так, чтобы закровило, проколами, после чего склонился к скуле, слизывая эту самую кровь. Не вкусная, но крови и не полагается быть вкусной, не так ли? Коготь надавливает сильнее, и белая кожа расходится, оголяя и затекая красным; что Учиха точно также облизывает. Ему захотелось выдавить Орочимару глаза, но, с другой стороны, пускай видит мельтешения и потолок над собой, о, да, пускай видит, пускай не становится одним лишь осязанием, а-а-ах, у-у-ух.
Шаринган неизменно горел на серо-бледном лице того, кто в самом дел не контролировал себя, но желал причинять боль, играть ею и растягивать ту единственную жертву, что имелась здесь. Рука со скулы резко скользнула ко рту, зажимая ту вместе с когтями, словно бы не давая его открыть; так и было. Но Саннин же бессмертный, хитрый, ему же имелось, что показать, чем научить ненасытного, не так ли? Что ему показать тоже; как и то, что могло растянуть это всё. дабы насладиться, а? Тем, чего так желал, чего вожделел, на что реагировал подобно голодному заключенному, увидевшему женщину в телах или невинную девочку, потерявшуюся у колодка в своей рисовой шляпе, а ты сраный шиноби во вражеской деревне. О-о-о, да-а-а.
Вот только вторая рука с шеи опустилась на солнечного сплетения, до легких и, впихнув туда пальцы, начала остервенело рассекать кожу подобно винегрету; раздирать, драть, расчленять, окрашивая все месиво в единый цвет. Дабы кровь бурлила, текла, билась, ластилась, кипела, пузырилась.
Саске весь — это боль, рефлексы и напряжение; казалось, глаза на затылке, на каждом участке кожи, в то время как дыхание рваное, тяжелое, руки неизменно бились в легком треморе, а всё прочее — это дурь,дурь, дурь, дурь; Саске дурел и игрался с этой дурью. Чтобы потом к черту порвать это тело, когда оно станет опустевшей оболочкой с кинутой чакрой.
Ему нужно порвать по-настоящему.
Ещё раз.
Сколько там трюков у Саннина припасено?
Сколько тел он способен потерять, сколько раз склеится, прежде чему гное закончится чакра, силы, способы, его знаменитое бессмертие и легендарность?
Саске желал этого всё. Рвать, кромсать, рамными способами — у Учиха с воображением всё хорошо; со всей той не отслеживаемой скоростью, отсутствием контроля и силой, о которых так много говорил Саннин и которые так вожделел. НУ ЖЕ, ДАВАЙ, БЕРИ! Потому что Саске уже нацелен на следующее вылупившееся тело, подбрасывая остатки прежнего, дабы нанизывались на острый меч — о, трюк-трюки... Между тем окружающее протестантство словно бы ни то темнеет, ни то течёт, становясь вязким, словно бы ты оказался по щиколотку в болоте из красной живы, винегрета органов, месива. Тошнотворный железно-гниющий запах, горящие в этом всем алые глаза и глухой, животное дыхание, готовое и желавшее лишь одного — р в а т ь . И способное лишь на это; весь разум, все рефлексы, все таланты и всё нутро работало на это. Дайте Саске кого угодно сейчас — и он порвёт его. Съесть. Изничтожит. Переварил. Выплюнет в лицо Змею — пусть даже одно из его собственниц лиц — пока они все не закончатся. Саске слишком больно, слишком плохо, слишком слишком, чтобы он не уцепился за тот рычаг, что сдерживал, дабы тормоза полетели к чертовой матери.
Как и он спустя каких-то пару ужасающих секунд; в эту сраную жижу, трясясь и пуская пену, прежде чем тело замрет, останется лишь пена, горящие глаза и изредка вздрагивающие конечности. Кажется, тело этого не вынесет. Кажется, жизнь переместилась куда-то ещё, обволакивая Орочимару руками: с кольцами, с крашеными ногтями, со змеиной чешуей... О, сколько и ужасов одинаковы, а сколько различным? Сколько отпечатков должны преобразоваться и вылезти наружу? Где среди них Саске?
Орочимару не выбраться.
Учиха, похоже, тоже.
На.[nick]Uchiha Sasuke[/nick][icon]https://forumupload.ru/uploads/0019/e7/78/1070/181561.jpg[/icon][lz]<center><a href="http://versus.rolka.su/"><b>Учиха Саске</b></a></center>эта кровь не стала козлом отпущения; эта тьма не была хаотичной.</a>[/lz]
Глаза расширяются на сотые доли миллиметра, в потемневшей до янтаря радужке отражается бешеный оскал, вплавляется в суженный зрачок, отпечатывается на сетчатке и на короткое мгновение Орочимару кажется, что именно так выглядит смерть. Узкая губа вздергивается вверх против воли, обнажая влажные от слюны зубы, подобно звериной гримасе и вся змеиная натура против всякой здравой и холодной логики жаждет вырваться из чужой хватки в первобытном ужасе, замешанном на желании жить.
Он не умрет.
Даже если умрет это тело.
Он. Не. Умрет.
Но смотрит в глаза своей смерти.
Это прекрасно.
Жажда убить ничуть не поддельна и откровенна, она окутывает Саннина с головы до ног, топит в зареве красно-черной ярости, что направлена на него. Сейчас — только на него.
И на один вдох ему хочется нырнуть в это алое с головой и уже не вынырнуть.
Это желание иррационально и он подавляет его в себе тем легче, чем фатальнее становятся те повреждения, что Саске наносит его телу в этом состоянии. Орочимару не станет допускать подобного сверх необходимого, он желал и ждал не совсем этого.
Впрочем, тоже подойдет.
Вновь, стоит напомнить себе, сквозь дымку восхищения и опасения — с Орочимару это легко, Орочимару не невинное животное и вовсе не невинный человек. Пусть сейчас Саске и переступил границу: если и убивать, то без лишней жестокости, верно? Саннина же он терзал откровенно и с удовольствием, но теперь впадая в иную крайность, где рассудку почти не было места.
Змей же жаждал невозможного, золотой середины, пусть и понимал, что увиденное им — редкое зрелище. Треснувшая на части броня безразличия, состояние пусть и вызванное допингом, печатью, искажением и болью, но имевшее место быть, увиденное Орочимару и созданное его усилиями.
Почему Орочимару так важна чужая эмоция? Почему жаждет ее так упорно и так настойчиво, если в ней нет никакого прагматического смысла? Если эта интенция направленная на него лично, не имеет никакого значения в уравнении. Не столь важно, кто вызвал бы у Саске ярость, не столь значимо, кто вверг бы его в горячку боя, Орочимару мог бы видеть эту картинку, мог бы наблюдать ее, упиваться ей не потеряв в объеме и насыщенности впечатлений.
Но он желал так, как сейчас.
И даже инстинкты, даже его тело словно замерло в тот момент, когда когти почти прошили горло, когда алые глаза на секунду оказались напротив и язык - не его — влажно скользнул по рассеченной плоти.
Но одолеть ученика оказывается не так легко: он знает многие трюки Саннина и пользуется этим, а Змей не может не испытывать мимолетную гордость. Учиха могут стать тем совершенством, с которым не сравнится ничто другое. Изорванного в клочья тела жаль и не жаль одновременно, растраченной чакры же не жаль вовсе, ведь все ради одного — идеала. Ради того, чтобы будущий сосуд стал сильнее, дабы Орочимару не тратил время на то, чтобы развивать его, шлифовать и огранять тогда, когда время будет и без того ограничено. Когда шаринган попадет в его руки на три коротких года.
Сбрасывая собственную изорванную плоть, протыкая ослабленное тело ученика клинком, сплетая себя заново Саннин отступает перед напором ярости и собственная его натура восстает против подобного, пробуждая в сознании память о том, что прошло и никогда не вернется. Орочимару не игрушка, это еще его партия, это еще его эксперимент, который он еще способен контролировать. Даже черты его лица заостряются и взгляд приобретает внимательность и цепкость вовсе не ученого, но шиноби на поле боя, что некогда чутко реагировал даже на цикаду, что неосторожно расправила свои крылья у походного костра.
Эта реакция почти спонтанна, инстинктивна и импульсивна: рука вскинута вверх и белая змея едва ли не уподобляется пущенной из лука стреле, столь же стремительно скользнув к Саске и впившись острыми зубами прямо в шею, пуская лекарство прямиком в кровь. Но даже так — уже поздно или же успокоительное становится тем катализатором, что замыкает распустившуюся иллюзию в самой себе, утягивает их обоих в нее, неконтролируемую, порожденную чудовищами собственного разума, разделенную на двоих, в которую они падают так и не сумев и не успев расцепить тисков из собственных рук.
В этом гендзюцу нет контроля, оно воспроизводит самое себя, бросает их в петлю, что воплощает что-то скрытое в их душах, в той глубине, куда не добраться и не нужно. Никогда. Вечно. Ни под каким предлогом, чтобы не разрушить ненароком собственную личность. Орочимару шипит едва сдерживая собственную злобу на то, что не смог и не успел перехватить контроль, его собственные длинные пальцы впиваются в чужие запястья и с силой отводят от себя чужие руки с острыми когтями. Даже здесь и даже сейчас — острыми, еще не успевшими окончательно вернуться к нормальному состоянию.
А после все вокруг теряет всякую форму, оплывает как свеча перед открытым пламенем и Орочимару чудится, что и они сами тают и превращаются в расплавленный воск, что смешивается воедино и Саске глядит на него его собственными жестокими глазами, а по его щекам бегут кровавые слезы, на которые так щедр шаринган.
Нет, он не хотел так, он желал все и целиком!
Орочимару трогает скулу пальцами и медленно ведет вниз, неопрятно смазывая идеальные алые потеки.
Орочимару близок к тому, чтобы вырвать собственные-чужие глаза и вдавить их в глазницы Саске, где им единственно и самое место, но прежде надо выдавить змеиные, неуместные — всего-то и стоит, что протянуть руки и....
— Саске, — тени скачут по стенам заброшенного здания где-то на границе страны Песка, уголки рта разрывает зажатый в зубах кунай, чтобы не выронить — чтобы не выронить в мокрых от крови руках — кунай. Воспоминания о прошлом. Тяжкие, неуместные, лишние. — Не дергайся, Саске-кун, — окровавленные пальцы ложатся на чужое лицо, тянутся к векам и замирают.
Что видит Саске в своих кошмарах?
Что видит в своих кошмарах Орочимару?
А может быть это не кошмар, а затуманенное и еще не ясное прозрение о будущем?
Как из тонких, фамильных, благородных черт проступает насквозь лиловая кожа, как волосы распускаются ниже и выгорают в белизну, такую знакомую и такую ненавистную. Тот, кто отнял у Орочимару руки, тот, кто может утянуть его в преисподнюю без права вернуться, сколько бы печатей он не оставил на земле. Бог Смерти во плоти.
Бог Смерти в смертном теле, которое можно убить.
Быть может это вовсе и не Гендзюцу?
Быть может это реальность — ужас и подарок судьбы.
Кем станет тот, кто убьет Смерть?
Кем станет тот, кто убьет свою Смерть.
Быть может...
— Бессмертным, — Саннин давит в себе проступающее торжество, но оно расползается по губам сумасшедшим и долгожданным ликованием, вместе с тем, как ледяные тонкие пальцы впиваются в чужое горло, ровно там, где бьется пульс.
Убить свою смерть — значит обрести бессмертие.
Гендзюцу — это сложная и малоизученная наука, чем бы она не вызывалась: шаринганом, долгими годами освоения мастерства создания зрительно-осязаемого из ничего, иными формами генома, что существовали в мире, или картинами внутри собственного сознания, что едва ли походили на привычным и видимым всем мир. Это сложно, и почти всегда — менее эффективно, чем любая другая форма борьбы, дзюцу или действий. Затратно, трудно, слишком сложно, а рассеивается так легко — так в чём же смысл?
Тело отказалось функционировать, сдавшись и отдав бразды правления одному лишь мозгу, что цепями связан с пропитанными чёрное едкой ненавистью алыми глазами; пока тело борется само с собой за выживание, оно отдало внешний мир на откуп. Инстинкты. Безопасность. Сохранение жизни. Ради Того Дня. Для Него. Всё, что по силам; не по силам — слабость. Глаза знали, что делать; глаза знали, что в них выдавливали, и что болью приобретенная ненависть должна давать свои плоды — вот они. Любование тем, что способны. "В твоих глазах больший потенциал, чем даже у брата", — как-то сказал Орочимару. А он, чёрт подери, исключительно редко ошибался. Может только в этот раз. Чуть-чуть.
Ты видишь, как Твоя смерть испускает воздух, оставаясь лишь шкурой подобно змеиной? Как растворятся в воздухе, оставляя тебя ни с чем, кроме ощущения чужой плоти под собственными ногтями, бьющейся пульсом; ни с чем, что черной прелестью расходится по — ты вспомни, ты почувствуй, ты ни на секунду не забывай — больным рукам. Растекается, проникает под кожу, делая её собой и заставляя дурно пахнуть, слоиться, рассыпаться, сходить до костей и дальше. Эта пустота — твои руки и без того отторжение тебя самого, как больно тебе подавлять это, сколько сил ты тратишь, убийца того, кто научил тебя? — тянет, эти частицы рассыпаются вместе с духом, что испущен и рассеян из шкуры мертвой Смерти. Божество Смерти. Твоего пути к бессмертию.
— Успокойся, Тсунаде, — раздается голос вдалеке, постепенно становящийся более отчётливым. До этого ты словно бы находился в потоке собственных мыслей, абстрагировавшись от окружения и найдя в кипе из песка, смертей и смешавшихся сторон что-то свое; такое важное, такое значимое, такое... почему никто не увидел, как ты покусился на самого бога? — Оставь его тело! Мы... мы ничего не можем сделать для него больше. Он бы хотел, чтобы ты ушла, — судя по звукам, начинается не то перепалка, не то бурное согласие уйти. Не хватало влаги, не хватало дождя, чтобы смыло кровь — просто кровь, просто жидкость, в которой ты давно не видишь ничего, кроме признака жизни или смерти; ничего, кроме генетики и наследственной цепочки.
— Орочимару, эй, ну же, хватит тратить время, нам надо разобраться! — разочарованный, встревоженный, обеспокоенный голос Джирайи, что явно пытался держаться силой, не допускать эмоций и делать так, как подобало шиноби. Получалось ли у него? Ты знаешь ответ. Но посмотри в их глаза тоже. В его, в Тсунаде — там есть слёзы? А в твоих глазах? А в тех, что должны были быть в глазницах божества? — Орочимару! — окликает голос ещё раз, но глаза, уставленные на тебя, словно бы наполняются новой волной изумления, отвлекаются от кровопролития кругом и полностью собираются на тебе.
— Что ты... — глохнет Тсунаде, не договаривая, и своими глазами, полными не выраженных слез, смотрит на тебя точно также: с шоком, изумлением, ужасом и... разочарованием? Никто никогда не смотрел на тебя так, как они смотрели на тебя время от времени. Глупцы, наивные, пропитанные ложными установками и заблуждениями. Ограниченные, привязанные.
— Ты ведь всё равно уйдешь, не так ли? В таком случае, я тоже уйду. Видимо, из нас так и не получилась команда. Эй-эй, Тсуна, похоже, это первый спор, который ты выиграла... не тот спор, который тебе хотелось бы выиграть, — и тебе словно бы хочется и не хочется сделать это одновременно, но вместо того ты смотришь на свои руки и не видишь их. Лишь чужая [нет], светлая и заляпанная в крови, грязи и дожде тушка совсем не человека. Ты смотришь на этих двоих и видишь, что они больше не видят тебя тоже, но кого-то другого. Озадаченные, шокированные, уже не делающие шаги на встречу. Тебе странно, но ты знаешь, что наконец-то можешь уйти. Наконец-то можешь провалиться, ступить дальше, дальше от... снова ляпаешься в крови и вдруг понимаешь, что ни то засыпаешь, ни то отключаешься.
Всё проваливается в темноту.
Дурной сон?
Открыв глаза ты обнаруживаешь себя на улице, в тишине и легкой прохладе; кажется, знакомые стены квартала. Зрение мажет, кашель, безумно болит голова. Рука касается-задевает чего-то холодного, пытаешься посмотреть туда — тело.
Дальше — ещё.
И ещё.
Лишь тёмная ночь, звезды и Луна, что заместо солнца.
Кругом трупы.
Но это не война.
Здесь нет врагов.
Здесь лишь мёртвыми хладными тушами развалились все те, кто были, будут и могли бы быть тебе дороги. Твой учитель, твоя команда, те, кто просто не были к тебе злы; такие же сироты и те, кто в твоем понимании не должны были умереть просто так.
Посмотри на свои руки — они бледные, маленькие, тебе, кажется, в самом деле приснился дурной сон. Совсем недетский, но ты же рано начал задаваться недетскими вопросами, не так ли?
Подними глаза.
Замри.
Застынь.
— Ты считаешь, что твоя жизнь ценнее их всех? Что в тебе есть что-то особенное? Пережить их всех, перестав считать могилы и став лишь безвременной оболочкой — это твоя цель? — алые тяжелые глаза, встроенные в темную, страшную фигуру [непонятно, человека ли; но темя инстинктивно тянет к ней] смотрят на тебя; глаза не твои, глаза не того, чьи ты так хочешь теперь. Но такие похожие. — Смотри, как скоро ты рассыпаешься и перестанешь быть человеком. Отсекая конечность за конечностью, привяжешь себя к земле жалким змеем, ничтожеством, не познавшим ни жизни, ни страха, ни боли. Мизерность. Ограниченность. Бессмысленная борьба против времени, — глаза открываются шире. — Давай, твоя дорога чиста, их больше нет. Никого. Вставай и беги по пустым улицам, беги к своему бессмертию. И если хоть одно лицо, что повстречается тебе на пути, будет достойно жизни иной — убей его. И только когда убьешь всех, когда доберешься до глубин своего вечного ничтожества — только тогда рискни прийти ко мне. Рискни бросить вызов. И проиграешь. Созданным ползать летать не дано.[nick]Uchiha Sasuke[/nick][icon]https://forumupload.ru/uploads/0019/e7/78/1212/95197.jpg[/icon][lz]<center><a href="http://versus.rolka.su/"><b>Учиха Саске</b></a></center>эта кровь не стала козлом отпущения; эта тьма не была хаотичной.</a>[/lz]