|
|
мне плевать на их проблемы ; ради получения ответов я пойду на всё
знаю ведь: чёрт со мной по одну сторону ада
кто убил, тот возродил[hideprofile]
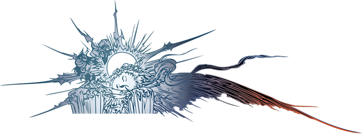
Versus |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
|
|
мне плевать на их проблемы ; ради получения ответов я пойду на всё
знаю ведь: чёрт со мной по одну сторону ада
кто убил, тот возродил[hideprofile]
Джуго ничего не говорил, но явно не был в восторге от идеи Саске, пускай едва ли относился к Орочимару плохо — сам ведь пришёл, какие претензии, всё честно. Суйгетсу идея не понабралась вообще, никак, категорически, вообще нет, что он шумно и активно выразил через рот, но что — демонстративно, подобному фоновому шуму — было проигнорировано Учиха. Ему, в общем-то, плевать. Совершенно: у юноши имелась концертная цель и способы её достижения, остальное же значения не имело. Даже если под "остальным" подразумевалась буквально мировая война, разразившаяся повсеместно и начавшаяся, какая ирония, из-за Саске как одного из поводов для её развязывания. Это их проблемы, в общем-то. Нукэнин следовал исключительно своим целям с самого начала и не озадачивал себя сторонним.
В конце-то концов, Суйгетсу сам притащил ему тот свиток. За сим всё.
Возрождение Орочимару — это процесс не слишком сложный, если знать техники Саннина, его подход и извращенность мышления; на личном опыте. Что Саске более чем хорошо известно: бытие фаворитом значимо не только особые условия, но и исключительный доступ к знаниям как тому, кому следовало перенять всё, прежде чем без сопротивления исчезнуть как личность. И если с последним не сложилось, то со знаниями, пополненными неизменной целеустремленностью и свитком, проблем возникнуть не должно было вовсе. Единственное, что могло стать проблемой — это техническое перевести в практическое. Что требовало найти кого-то со следами Орочимару, т.е. живого обладателя метки Саннина, чем похвастаться могли... ну... никто? Практически совсем никто. Перед тем же, как на необъятном земном шаре отыскать "практически совсем никто", используя Карин и собственные возможности, Така пришлось наведаться в несколько убежищ, чтобы по сусекам собрать всё необходимое для воскрешения. Благо, что на собственные ДНК, как и колы с весьма омерзительным, временами пугающим и крайне сомнительным содержимым, змей никогда жаден не был.
А Анко ему никогда не нравилась. Мутная, психованная, слабая, себе на уме, бестолковая — что чёртов Орочимару в ней нашёл в своё время, спрашивается? И всё-таки. Учиха нужна была именно она. Как единственный оставшийся полноценный носитель метки, включавшей достаточную часть Саннина, дабы вернуть его к жизни; насколько надолго и прочие нюансы Саске не волновали. Бывший наставник в любом случае не сможет противостоять ему теперь, в целом будучи способным встретить достаточно много сопротивления и из иных источников в том числе, потому... Какая, к чёрту, разница? Саске нужны ответы. Он хотел понять, сложить картину мира в своей голове и двинуться дальше, наконец-то отпустив — или использовав как топливо — полученные ответы. Всё. А преград, как известно, для него при наличии цели просто не существовало. Никаких. Даже — возвращаясь к ней — Анко.
Пришлось попотеть, для начала, чтобы найти её, а после и заполучить в свои руки. Потому что кроме придурочной куноичи был ещё этот чёртов Кабуто, и там в самом деле только ловкость, пот и желание судьбы [кармы] потроллить происходящее: тело немного потрепанной и коматозной женщины Саске всё-таки заполучил, как и потрепанных напарников по Така; к своей потрепанности давно успел привыкнуть, так уж получилось, потому даже не обратил внимания. Дышать мог, ненависти хватало, сил убить любого — как казалось — кто помешает получить ответы, встав на пути — тоже. А война? Что же... Если честно, она юношу не интересовала вообще. Была или не было, из-за чего разгорелась, какова его роль в ней — вообще плевать. Саске не намеревался никого поддержать, презирая всех одинаково; их смерти и глупости — это только их выбор, а над своим Учиха работал прямо сейчас.
Устроившись в одном из разваленных убежищ, Саске провернул то, что и следовало: вернул легендарного Саннина к жизни, игнорируя весьма разномастную реакцию своей команды. Сейчас он плевать на них хотел. Вообще на всех. Ему, в общем-то, даже несколько оживших покойников S-класса не мешали, как и он им, по крайней мере пока. Как и на толпу управляемых Кабуто усовершенствованных подопытных Орочимару — тоже; Учиха вообще не вдавался в подробности, едва ли зная что о планах последнего, что о том, чего тот вообще проворачивал, как и откуда. Да, ему настолько плевать.
Дальше, казалось бы, всё совсем просто: Орочимару нужно лишь провернуть тот же самый Эдо, своими знаниями призыва в первую очередь духов — на разговор или как угодно. Учиха плевать на технику, лишь бы был результат; сам подобным не интересовался и заинтересовываться не намеревался, потому без Саннина не обойтись. Другое дело, что там, как оказалось, Орочимару тоже не обойтись без... скажем, своей чакры, по кусочкам разбросанной в подопытных, кое-как перенявших печати. Как и части своих утраченных способностей и элементов ДНК, коих не имелось на момент запечатывания в теле Анко, зато имелись в Кабуто. Что же, ладно: раз надо, значит разберутся и с ним тоже. Словно бы плевое дело. Ну-ну.
Если честно, то оба там чуть и не умерли, одержав победу в самом деле одним лишь чудом: Кабуто стал не просто сильнее ослабленного Орочимару, но, вероятно, смог бы составить конкуренцию даже Итачи, окажись тот жив и на месте Саске, потому... Это правда оказалось опаснее и сложнее, чем одолеть Дейдару или Данзо; вероятно, даже сложнее онии-сана, если не затрагивать эмоциональную сторону вопроса. Вообще сложнее всех, кто встречался Учиха прежде, и если бы не знания Орочимару, его давнее влияние на Кабуто и учиховский глаз, одолженный из коллекции Обито да вживленной ястребу, то они бы не справились; что иронично, как ни крути.
И тем не менее, вот они: почти полный состав Така и Орочимару, выжившие на зло ни то себе, ни то миру, ни то какому великому философскому посылу. Теперь им предстояло добраться до Конохи, где сейчас, как ни странно, безопаснее и тише всего. Там находилось место для собраний Учиха, там же можно будет провернуть желаемое, а ещё располагался один из храмов, в который, как сказал Орочимару, надо заглянуть: иначе ни рук себе не вернёт, не обещанного провернуть не сможет. Куда, собственно и направились, пока мир захлёбывался в собственной крови.
Прежде с Саннином так ничего и не обсудил, лишь обменявшись целями [констатацией со стороны Саске]. Времени, как и желания, на споры не нашлось, потому до того самого момента, как они покинули пещеру, чудом [подчёркнуто] одолев Кабуто, никакого полноценного диалога не состоялось. Саске это было не нужно, Саннин, вообще-то, только вернутся к жизни, буквально сразу попав ни то в чужой план [иронично; снова; теперь младшего из братьев], ни то выброшен в состояние мира, что было самым завораживающим, но бессмысленным на свете — войну. Потому, в самом деле, не до разговоров. Джуго и Суйгетсу молчали также; первый потому, что сказать было нечего и незачем, думая о своём, а второй... вы просто посмотрите на то, куда сливалась его гордость и самоуверенность от одного лишь присутствия давнего мучителя. Оттого предпочитал держаться поближе к Таке, нежели воскрешенному ублюдку. Его право. Всё равно "учитель со своим учеником" в итоге немногим выбились вперёд.
Молчали.
Всё кругом на первый взгляд оставалось прежним: леса, природа, небо, воздух, а там даже выяснилось, что Коноха умудрилась сохранить какие-то свои общие очертания, знакомые обоим. Только то, что касалось людей, отличалось от привычной картины. Трупы, покорёженная земля, изобилие умирающей или, напротив, расцветающей чакры войны кругом; разваленные мосты, деревни, напряженные редкие мирные жители, повсеместная усталость и грязь, словно бы окутавшая даже то, что по факту являлось чистым — они видели это на протяжении всей дороги. Ничего приятного, ничего красивого, ничего... удивительного тоже, хах?
Саске не знал, как относился к тому, что видел; к тому, что развязалось; к тому, что, в каком-то из смыслов, сам и спровоцировал. Он никогда не думал о войне, не мечтал участвовать в таковой, хотя, как и всякий шиноби, для того и рождён, для того кланом и воспитывался — миссии, служба, полиция, войны; поколениями. Никогда не считал, что война — это нечто неестественное, но... едва ли пытался — хотя бы раз в жизни — понять, зачем эти события из раза в раз повторялись, приводя к одному и тому же; не пытался понять опыт таковые переживших. Ему было не интересно. Всегда. Его нутро словно бы знало, что мир не способен будет дать вразумительного ответа, а потому данным вопросом не задаваться вовсе. Как и смысла не имелось: Саске был одержим иными заботами и иной целью, что вела его до сих пор; Итачи не раскрыл всей правды, как и Тоби, как и Данзо, как и архивы Учиха — каждый из них мог врать, Саске никому не верил и откровенно запутался, как и устал ото лжи. Загнанный [выгнанный] в реальный мир и нахождение в обмане всю свою жизнь, он должен был довести эту линию до конца, расставив всё для себя. Независимо от того, что оно ему даст и к чему приведёт. Это никогда не имело значение.
С другой стороны, Саске хоть и не злодей по сути своей, но... наверное, в каком-то смысле война его удовлетворяла. Тут никто не улыбался, тут каждый — виновный или нет — платил за чужие ошибки, за последствия чьих-то решений. Как и он когда-то. И здесь, как в жизни нукэнина, никому не было дела до их проблем, никто не имел ответов, никто не знал, что делать, а потому принимали самые худшие из решений. Злорадство, справедливость, закономерность — какой из этих элементов вызывал мрачное, тёмное удовлетворение, из-за которого не имелось никакого стремления вмешиваться, но тошнило — пока — от окружающей картины? Вероятно, об этом Учиха тоже не думал. Просто... его глаза начали замечать; цепляться; обращать внимание.
Потому что война — это их смысл. Тогда почему они не жили в ней постоянно, и почему довели всё до... такого? Глядя на кровавую пену у рта и последствия, Учиха, если честно, вовсе не ощущал себя ни неправым, ни преступником, коим его считал весь мир; он даже не знал, если честно, стоило ли таковым считать Орочимару: непременно больного ублюдка, естественно преступника из ранга легендарных и [неизменно] особенно опасных, но... опаснее ли он самих людей? Вот этого всего? Больше ли в нём преступности, ошибочности взглядов? Случайный вопрос в голове, и взгляд тёмных глаз молчаливо скосился на Саннина. Он не вызывал ни тошноту, ни отторжение. Сейчас. В той обстановке единой — единственно существовавшей — реальности, в которой они оба находились. Не у дел; сотканные из войны, но не соприкасавшиеся с ней никоим образом — осознанно.
Учиха война не интересна, у него внутри шла своя. А Орочимару...в этой же самой ли войне состоял его интерес теперь?[nick]Uchiha Sasuke[/nick][icon]https://forumupload.ru/uploads/0019/e7/78/1070/73336.gif[/icon][lz]<center><a href="http://versus.rolka.su/"><b>Учиха Саске</b></a></center>эта кровь не стала козлом отпущения; эта тьма не была хаотичной.</a>[/lz]
Смерть никогда не проходит бесследно. Даже смерть, спланированная до мельчайших деталей, продуманная и, как и всякий хороший план, пошедшая наперекосяк. Орочимару не учел ни той безумной воли, которой Саске наделяла, сконцентрировавшая в себя весь смысл его существования, цель; ни безграничной и бездонной силы Итачи; ни наличия у последнего клинка Тоцука. В остальном же план мог бы быть безупречен и должен был привести к тому, что Орочимару пожинал бы плоды своего успеха, во всю глядя на мир через новообретенный шаринган.
Плоды у случившегося были, пускай и не такие, как мог бы предвидеть или ожидать Орочимару. В самом себе Змей давно не заблуждался, изведав собственные страхи, представления и ожидания, но не был готов, что после возрождения вернется то, чего он так долго бежал.
Эта бездонная пропасть в его душе, почти черная дыра, что отзывалась во всем существе сосущим и тянущим голодом, гнавшим его дальше и дальше, на поиски чего-то способного принести избавление. Этот голод был забыт им, умело замещен потребностями вполне достижимыми и осязаемыми, что устроили его и показались достаточными, чтобы голод метафизический обрел плоть, кровь и осязаемую форму. Истина — априори недоступна, априори бросает в пучину вечных поисков и вечного стремления, мучая хуже, чем пожирающая тело болезнь. Орочимару не желал для себя такой судьбы, вытеснив из мыслей те вопросы, что некогда вели его по жизни; что родились в тот момент, когда он подобрал шкуру белоснежной змеи на могилах родителей (со временем ставших не более чем бессмысленным прахом в земле и под надгробными плитами) и провели его через войну, через смерти, через чужие безутешные страдания, показав, сколь бесмысленна борьба за правду, за мнимые идеалы и сколь эти самые идеалы искалечены людской природой.
Итак, он избрал знания, он избрал бессмертие — то, что можно ощутить, то, что имеет вес и полноту, и отбросил все лишнее, тем самым не позволив этой коррозии пожрать себя так, как она пожрала всех кто начал ту бессмысленную войну, что он видел глазами Анко. Очередная война, призванная изменить мир, призванная дать ответы и отыскать решения, что могли бы показаться привлекательными. Те ответы, за которые умер идиот Джирайя (нет, сердце вовсе не кольнуло человеческим сожалением).
Хотелось только прокричать, какие все они глупцы, что не видят элементарного, не смотрят дальше кончика своего носа и не замечают, что пытаются возродить давно сгнивший труп, что в этом мире не осталось жизни, за которую стоило бы сражаться и они только стервятники, делящие падаль, дерущиеся за падаль, пусть и мнящие себя орлами.
Самообман может быть безграничен, а самообман, порожденный сверхценной идеей и вовсе непреодолим. Орочимару прожил достаточно, чтобы убедиться в этом.
После возрождения, вопреки обыкновению змей молчалив и задумчив, скуп на свои ядовитые ухмылки и едкие слова, только изредка огрызается на Суйгецу словно бы по привычке, но тот так дрожит и так напуган его присутствием, что не замечает фальши. Орочимару думает, заново вскрывает свой забытый голод, что словно бы только того и ждал, а теперь вгрызается в его позвоночник с воем и каплями липкой и едкой слюны. Это неприятно — Саннин морщится и хмурится — физически; кидает косой взгляд на Саске и вскипает мимолетной злобой на мальчишку за то, что растревожил старые раны, за то, что не понял: ищет ответы которых нет. Или Саннин надеется, что их нет, ибо знает — они ему не понравятся, не устроят, не насытят. Может потому сам и отрезал себе крылья, добровольно прижался к земле, став не птицей, но змеей, что пусть и не взмывает в высоту, но не теряет твердой почвы под ногами.
Глупый мальчишка. Саннину хочется отомстить, разворошить и чужие мысли как осиное гнездо, чтобы бились о черепную коробку и сводили с ума своей вездесущестью и своими жалами, чтобы не мучился он один. Но вряд ли получится, у Саске в глазах та же бездна, на дне которой чудовище, чей голод неутолим и безграничен. Хуже уже некуда. Сильнее Орочимару его уже не зацепить. Да и нет смысла.
Саске указывает ему ближайшую цель и Орочимару хватается за нее, как за осязаемую соломинку, малодушно отдает бразды правления бывшему ученику, давая себе время на то, чтобы осмотреться. Если есть цель, есть и путь к цели — простой и понятный. Чтобы оживить покойников — нужна чакра, нужны руки, — чтобы вернуть чакру, нужно отобрать ее у Кабуто. Действия упорядочивают мысли, позволяют взять их под контроль, позволяют оценить все происходящее изнутри, а чужих остаточных переживаний в Саннине и без того слишком много. Слишком о многом нужно было подумать, слишком многое свершилось без его участия, но почти на его глазах, даже если и запущенное (отчасти) его руками.
Кабуто, еще один глупый мальчишка, погнавшийся за призраками, обманувший себя тем, что нашел свой путь, преодолел ограничения, на деле лишь поменяв один ориентир на другой, заместив следование за Орочимару следованием за тем, кто мог предложить что-то не менее глобальное. Саннин мог бы пожалеть его, но эти чувства давным-давно умерли в нем, а может быть их и не было никогда вовсе.
В любом случае, Кабуто сейчас не имел никакого значения, как и многое из того, что их окружало. Картинка Орочимару вполне знакомая — запустение и смерть, как вечные спутники войны; даже кровь привычно закипает адреналином, чувства обостряются, и вся его суть неосознанно готова принять бой или же ответить на столкновение. Инстинктивная неизживаемая реакция, что противна самому Змею.
Должно быть и Саске это знакомо.
Тишина длится между ними, но уже не тяготит, заполненная молчаливым созерцанием, (еще) не взаимопониманием, но общей интенцией, общим направлением мысли, пусть для Орочимару и вынужденным, нежеланным, всячески избегаемым. И в этой тишине им, пожалуй, стоит поговорить о многом. Растравленная Саске болезненная потребность у них теперь одна на двоих и, быть может, его ученик преуспеет в ней больше: Орочимару не нашел ответов и отказался от их поисков, для Саске они теперь необходимы. Быть может это и выход — посмотреть на проблему чужими глазами, глазами ученика, коему может быть видно куда больше, чем самому Саннину.
— Ты очень изменился, — Змей первым нарушает молчание, поймав на себе взгляд Учиха. Не стремится задеть или зацепить и в словах его куда больше задумчивости, чем обычно. Знает, но мельком, о том, что произошло после битвы, на которой Орочимару постигла вторая смерть (ужас осознания до сих пор сужает зрачки в узкие точки). Но умирать, оказывается, вовсе не так страшно, он может рассказать об этом, если кто-то спросит.
— Месть оказалась слишком легким решением, не так ли, Саске-кун? — Без привычной издевки голос Орочимару созвучен хрипу, с которым с раны отшелушивается короста, — Я ведь говорил тебе, что мир не устроен так просто, что нет ни черного, ни белого. Здесь вообще нет цветов, только крики и только гниль, которую совершенно не хочется замечать за фасадом, раскрашенным в чужие смыслы.
Очертания деревни встают перед глазами неизменной константой. Если не знать и не приглядываться, кажется, что ее вовсе и не разрушали. Но Орочимару знает, что ее сравняли с землей, без него, без его участия. И не чувствует ничего, ни удовлетворения, ни сожаления от того, что желаемое им свершил кто-то другой. Как итог — ничего не изменилось. Ему вдуматься, то ничего и не могло измениться, а все прочее было лишь глупой надеждой, на которую он, оказывается, еще был способен. Интересно, ведом ли и Саске той же неосознаваемой надеждой на чужую мудрость?
— Что ты хочешь узнать у Хокаге, Саске-кун? — Орочимару останавливается и оборачивается к ученику, впервые с момента воскрешения глядя на него прямо, — Думаешь, они смогут дать тебе желаемые ответы? Ты — наследие их решений, подумай, что в таком случае они могут тебе поведать.
Интересная это штука — целеполагание. И топила, и спасала, и толкала, и тормозила. Заставляла искать и смотреть шире, но при этом держать свой фокус лишь на узком перечне вещей, если не на одной-единственной вовсе. Прямо сейчас Саске ощущал это как никогда прежде. От первой и до последней буквы.
Он узнал так много: из разных уст в разных версиях. В состояниях, когда готов был поверить кому угодно и во что угодно, если оно даст опору, одновременно с тем совершенно не понимая, верил ли по-настоящему или потому лишь, что тело без мотивации — это мёртвое тело. В то время как ему нагло и настойчиво не давали умереть, оказавшись там, где так хотелось оказаться — с кланом, с братом. Но, узнав много, немало осознав и ещё больше проделав, двигался неизменно в прежнем направлении: Итачи. Просто потому, что стремился понять — уже ни для кого-того другого, но для себя. Просто потому, что в бессмысленности и грязи окружающего мира уже убедился, насмотрелся, желая теперь разобраться в том, что стало с лучом света; кто и зачем исказил его, весь их клан, самого Саске. Эгоистичное желание, неизменно сконцентрированное на себе, но... А можно ли винить нукэнина в этом, если присмотреться? Без почвы под ногами невозможно идти верной дорогой; если вообще удастся идти, а не ползти. Любому человеку. Вероятно, в этом можно убедиться, если посмотреть на Орочимару. Вы посмотрите, посмотрите. Внимательно. В глаза, в голову, в историю.
— Месть оказалась циклом. Если так, то я намерен уничтожить все звенья, — без сомнений, без мягкости, констатирует в своей исключительно привычной и присущей ему манере. Да, Учиха не разобрался во всей истине, не нашёл всех ответов, что привело его к весьма радикальным решениям [снова, посмотрите на живого Саннина как явное тому свидетельство]. И тем не менее, он не изменил своих взглядов в традиционном смысле. Всё, что вело ношу, никуда не делось. Оно лишь... сменилось в масштабах. Орочимару непременно по себе знал, как это работало, пускай теперь, как ни крути, разница в их историях стала куда более очевидной. Сходились они вовсе не в начале, но, быть может, к концу — в той точке, где мир приобрел форму. Нелицеприятную, неисправимую и совершенно не заслуживающую почтительного к нему отношения. — Но сначала найду первопричину.
Ненависть.
Она никуда не делась. Она переполняла Саске, вела вперёд; ненависть, месть, Итачи, отмщение — это горело внутри него, затмевая прочие мысли, мотивы и рассуждения. Нукэнин желал изничтожить, сжечь, испепелить чёрным пламенем, что не гаснет семь дней, каждого, кто виноват в его боли; в боли Итачи, в решении истребить клан, в манипуляциях; снова, опять, неизменно — в Итачи, в репутации Итачи, в не признании Итачи, в той лжи, что была жизнью и слепой верой Саске прежде долгие годы. Он не симпатизировал никому, не верил никому, не видел — теперь явно ни в ком — ничего хорошего и не задумывался о плате, что придётся заплатить за получение ответов. Ему плевать, заплатит всё и дальше больше. Только теперь ненависть Саске достигла тех границ, когда он более не торопился на тот свет сам, выжидающе расположив её в себе так, дабы терпеливо созревала и скапливалась до обретения достаточного количества истины. Чтобы определить следующий объект и начать действовать. После — что-то непременно наступит, и первой на очереди даже не стояла собственная Смерть. Но, непременно, смерть других.
"Я сожгу каждого, кто превратил жизнь Итачи в Ад. Я испепелю каждого, кто загнал мой клан в угол. Каждого, кто им дорог и продолжает жить той же верой, что и виновные мрази. Каждого, кто мне врал," — и эта ненависть, это знание, эта готовность, более не горела явно видимым пламенем. Оно подкармливало себя дымом внутри, смешиваясь с холодом во тьме; да, Орочимару прав: Саске изменился, и точно также изменилась его ненависть. Его понимание мести. Само её предназначение. Исключительно иронично вписывавшееся в картину мира, когда тот уже в огне самого с собой, не выдержавший и окунувшийся в пучину войны. Такой глупой, такой нелепой, как и все те решения, что они принимали; привели к страданиям Итачи.
— Они и дадут мне первопричину. Я хочу понять, в какой именно момент была совершена ошибка. Почему всё сложилось так... для Итачи, — каких-то элементов не хватало. Деталей, что не прозвучали в словах никого прежде, но переменно должны были иметься. Саске чувствовал, точно знал, ощущая, что картина... не полная. — Разобраться, насколько много лжи в том, что мне известно теперь, — Саске выдавал свою версию правды брат, Тоби-Мадара-Обито, коноховцы, в каком-то смысле Орочимару; вероятно, что-то добавит и Кабуто, затеявший своё вмешательство непременно не просто так. Теперь юноша желал определиться со своей. — Решить, против кого направить ту силу, что я приобрёл из-за их ошибок. А потом вернуть виновным долг, — в его сердце и планах не имелось места свету, прощению, пощаде, чёрт знает ещё чему. Никто этого не заслужил. Не имелось причин быть благородным по отношению к миру, что не благороден и без того. Особенно делать это, когда тот и заливался кровью; в который раз. Саске стал жестче. Теперь, когда его месть не ограничивалась смертью одного человека, а система — даже без отсутствия недостающих деталей в картине мира — показала свою недееспособность, мягкосердечность и пощада не имели никакой почвы. Они шиноби. В мире шиноби. В мире людей. Привнёсших боль. Плевать на боль собственную, однако они заставили страдать Итачи, тем самым сломав всё то, что способны были сломать. В том числе Саске. Всё просто.
Орочимару ведь прав: "наследие их решений". Пускай же поплатятся и увидят последствия; не они сами, так их продолжения, их дети. Саннину не в чем было винить ученика, Саннину незачем и некого было жалеть. Саннин стал иной формой, но тоже наследия, и не имел ни единой причины проявлять милосердие к миру сейчас; мир не нуждался в милосердии. Он не умел обходиться со светом, добротой и лучшими из побуждений. А Коноха начала всё это две сотни лет назад, став первой скрытой деревней убийц и дав старт традициям. О, насколько сильно Учиха убедится в этом, когда получит недостающие элементы паззл... Насколько убедится в этом и сам Орочимару.
И всё-таки непробиваемая жирная ирония, что они идут вместе вот так. Посреди войны. Не к свету и не за искуплением; не за собственным уж точно. Кажется, даже смерть стёрлась, потеряв всякое значение, ужас и конечность.[nick]Uchiha Sasuke[/nick][icon]https://forumupload.ru/uploads/0019/e7/78/1070/73336.gif[/icon][lz]<center><a href="http://versus.rolka.su/"><b>Учиха Саске</b></a></center>эта кровь не стала козлом отпущения; эта тьма не была хаотичной.</a>[/lz]
Насмешка судьбы, столь нелепая, что уже вовсе и не кажется таковой, вписывается в окружающие условия, в творящийся вокруг ужас, хаос и ненормальность, складывает из них двоих цельную картинку, что замыкается сама в себе и сама себя порождает. Вопросы пожирают их обоих, но один еще не осознает всего масштаба той схемы, которую пожелал раскрыть, а второй, быть может, догадывается, но малодушно желает забыть об этом, став лишь придатком к первому. Пусть Саске задает вопросы, если у него еще есть силы, пусть ищет ответы, а Орочимару только посмотрит, поможет и поддержит, быть может взяв что-то и для себя.
— Понял, наконец, что тебя использовали, — почти удовлетворенно мурлычет себе под нос змей, сухо усмехаясь бессмысленной иронии этой ситуации. Саске и без того знал, что использовали, даже самому Саннину дал на это согласие добровольно, но, как оказалось, масштаб манипуляций оказался гораздо шире. Кто использовал и зачем? Чьи интриги столкнулись с иными, на чьи наложились и что дали в итоге? Даже война эта, бессмысленная, очередная, и результат стечения обстоятельств и последствие и чьего-то злого умысла, доведшего эти последствия до крайности, а в итоге... А итог один, для кого-то желанный, для кого-то ненавистный, но словно бы неизбежный. Кажется, что война началась бы даже в том случае, если бы ее никто не желал. Впору поверить в судьбу, даже если не страдаешь фатализмом.
Орочимару не страдал, но горькую насмешку происходящего оценил. Может потому Саске и оживил его, того, кто не слишком скрывал своих мотивов и причин своих поступков? Да, манипулировал, да, испытывал, но в открытую, ради своего извращенного понимания блага, даже, в целом, считаясь с мнением своего будущего сосуда, увидев в нем личность. В кои то веки постаравшись вложить что-то в чью-то голову не ради выгоды или развлечения, а почти добровольно, ради заложенного потенциала. Сугубо из любви к искусству.
Саске ведь и его наследие тоже, пусть пока вклад Орочимару и ничтожен в общем масштабе.
— Первопричину, — задумчиво повторяет Саннин и облизывает пересохшие губы. — Если уж хочешь вырваться из цикла, рушить надо не звенья, Саске-кун, но лучше было бы убить того, кто сковал эту цепь. Но если кузнеца нет? Если у Хокаге нет ответов? — Очень вкрадчиво и очень тягуче вопрошает змей, оглашая и собственные сомнения и те, что вероятно терзают Саске где-то в глубине души, под слоем своего излюбленного целеполагания. Намеренно их усиливает и приукрашивает, словно бы проверяя чужую решимость. — Они — не первые, они вовсе не начало, быть может, даже, далеко не начало, — Орочимару знал о прошлом не много, сосредоточившись сугубо на будущем да на самом себе, но вольно или нет, он всегда был наблюдателем и знал, что все, что некогда казалось истоком, на деле оказывается лишь ручейком, пробившим себе путь от бурного потока. — То, что они скажут, может оказаться вовсе не истиной, но лишь их видением, их интерпретацией. Очередной. Уверен, ты слышал их уже не мало.
Орочимару знает, что Саске оживил его с определенной целью и вовсе не с тем, чтобы выслушивать его размышления. Если бы он желал ответов от Саннина, то задал бы вопрос ему. Это колет смутной обидой и, одновременно, удовлетворенностью. Значит змей оказался нужен, пусть и весьма прагматично, как и всегда. Но если так, он имеет право взять плату. Да, Саске должен ему и без того, ведь за потраченные усилия Орочимару так и не получил его в качестве сосуда, но сейчас это было бы бессмысленно, так что нукэнин обойдется и разговорами, слепками с чужой личности, что в чем-то не менее притягательна чем тело.
— Итачи до сих пор непогрешим в твоих глазах, верно, Саске-кун, — Орочимару изгибает губы не в улыбке, но в привычной гримасе издевательского превосходства, — Ты даже не допускаешь и единой мысли о том, что брат и сам может быть виновен в случившемся не меньше, что твой клан может быть виновен в случившемся не меньше, что и ты сам можешь быть виновен в случившемся, равно как и я. Просто потому, что каждый в этом сломанном мире виновен в том, что случилось с ним. Хотим мы того или нет, наши решения только на нашей совести. У нас всегда есть выбор. Даже если это выбор между двумя одинаково отвратительными вариантами — это выбор. Итачи мог выбрать собственный клан, мог убить тех, кто стал причиной его поступка, мог отступить, мог продемонстрировать свою силу, но не стал. Не сбрасывай со счетов его собственной вины.
Почти привычным жестом нукенин хватает бывшего ученика за подбородок и с истинно змеиной усмешкой заглядывает ему в глаза. Саске мог бы убить его сейчас без особенных проблем, но бывший учитель нужен ему, а, значит, Учиха сдержится.
— Первое впечатление было обманчиво, Саске-кун, я немного погорячился. Ты еще не покинул своего уютного и полярного мира, ты еще цепляешься за прошлое. А что если я отвечу за них? Послушаешь своего мудрого учителя, если он скажет тебе, что ничего не изменится от того, что скажут тебе Хокаге? — Змей испытующе смотрит в чужие темные глаза, проверяя то ли себя, то ли Саске. Он уверен в том, что говорит, он уверен в том, что истина недостижима, что ее нет и не будет. Не той, которой жаждет Саске. — Ты до сих пор пытаешься упростить мир, вписывая его в прежние рамки своего понимания. Кто-то хороший, а кто-то плохой, кто-то виноват, а кто-то — пострадал. Но правда в том, Саске-кун, что каждый в чем-то виноват и каждый от чего-то пострадал. Как я и как ты. Что, если ошибки не было, а была лишь закономерность?
Знал ли Саннин то, о чем могут поведать Хокаге? В чем та первопричина, которую так настойчиво ищет Саске? Нет, но в общем догадывался, как и был уверен, что выбор есть и был всегда. И у Итачи, и у Орочимару, и у Саске, и у того мальчишки джинчурики и у каждого, кто живет. Бессмысленный выбор в бессмысленном мире.
Но вдруг есть что-то еще?
Цепкие пальцы отпускают чужой подбородок и во взгляде Орочимару проскальзывает, словно бы, доля уважения к тому, с кем он ведет разговор, прежде звучавший для него лишь внутренним диалогом.
— Однако я рад, что ты пытаешься найти свой путь, Саске-кун и рад, что ты призвал меня, чтобы я поучаствовал в этом процессе. Истины не существует и правда лишь в том, чтобы найти свою интерпретацию, ты не ошибся.
К Орочимару словно бы вернулась доля некоторой веселости. Нельзя было сказать, что идея Саске была ему абсолютно безразлична. Да и окружающие условия складывались как нельзя лучше. Деревня пуста, а они в ней почти одни. Удачный шанс. Разве это не то, чего он хотел? Тонкая манипуляция приведет его к желаемому, быть может он не сможет получить чужое тело, но сможет разрушить Лист, если навести Саске на верную мысль. Но есть ли смысл в том, что еще недавно сам Орочимару видел верным решением?
Врядли. Доказательство перед его взором.
Нет, Орочимару уже выбрал свой путь. Путь, что привел его к удовлетворению, что дал ему смысл, цель и почву, пусть сейчас все несовершенства его решения вскрылись с особенной силой. Его попытка израсходована на данном этапе. Орочимару понимает, что тоже бежал, не оглядываясь, смотря только вперед, словно один лишь факт бессмертия сам по себе явился бы желанным ответом. Но нет, бессмертие в мире, в котором изменился только ты сам, столь же бессмысленно, как и смерть.
Тяжкое осознание.
Саннин знает, что обдумает это позже, сейчас же заняв позицию в наблюдателя. Быть может он уже сейчас видел недостатки в той цепочке мыслей, что посетила Саске, но весь превратился в созерцание, осознанно отказывая себе во влиянии на события.
Пусть так, пусть Саске будет ветром, на волю которого он отдастся и который принесет его к чему-то новому.
Пожалуйста, не переоценивайте ментальное здоровье шиноби. Не рассчитывайте на ментальное здоровье Учиха Саске; вообще. Он успел сойти с ума, тронуться мозгом и пустить крышу в свободный полёт — это произошло непроизвольно, неизбежно, неминуемо; это полностью осознавалось — и ощущалось — мстителем. Это принималось им. Это не вызывало в нём противоречий или ужаса. Это, в каком-то смысле, его даже удовлетворяло. Потому что являлось абсолютной закономерностью. Результатом всего того пути, что он прошел; всего того, что с ним сделали — не он сам, но окружающие, считавшее, что имели право распоряжаться жизнью сына, брата, друга, воспитанника, сосуда, оружия, мстителя. Саске сумасшедший. Непоправимо искривлен. Деревней, кланом, Итачи, Орочимару, Тоби; собой. Это та реальность, что являлась истиной. Нукэнн ничего не способен поделать с этим, как и не собирался — пускай весь мир пожнёт результаты своих кропотливых трудов, и начнётся это с Конохи. В любом случае — все пути вели туда, оттуда же и выводя.
Однако даже в своем безумии, больном, буйном, надрывном, безысходном — Саске не намеревался его сдерживать совершенно — Учиха, какая ирония, видел больше, яснее и отчетливее их всех. Как и Орочимару. Эта система породила их, но не пережевала, не подстроила под себя; повлияла, надломала, видоизменила — да, однако не стала доминировать ни над Саннином, ни над последним из Учиха. Не навесили себя ни долгом, ни обязательством, ни условностями, ни пресловутым заблуждением в виде Воли Огня, и именно потому их глаза широко открытыми видели глубже. Глаза Саске прекрасно видели сквозь иллюзии. Раньше ему было плевать на эти иллюзии, как и на большую часть вещей в мире — в том числе на сам мир. Сейчас же... что же, не сказать, что хоть что-то изменилось. Ни мир, ни люди по-прежнему не стоили того, чтобы Учиха сменил свой курс. Никто и ничто так и не превзошли Итачи в своей важности, лишь только горько подчеркнув, насколько верно Саске выбрал его своим единственным фокусом; насколько всё неизменно не заслуживало того, чтобы это изменилось. Только теперь нукэнином вели не манипуляции со стороны, не поводок, добровольно навешенный на шею, а собственные мысли, собственная мотивация и собственные мотивы. Вылившиеся из того, во что его прежде тыкали, ведь ничто не проходило бесследно, однако теперь под иной эгидой, когда глаза, чтобы выйти на данное решение, всё-таки посмотрели на то, что всегда занавешивали за ненадобностью. Это странная форма отрицания и принятия одновременно, неизменная, переиначенная фиксация; сумасшествие, помните, как и ненависть — это не просто слова. Мститель, одиночка — не просто определения. Орочимару знал. Многое. Но не всё; пускай не обманывается. Или, впрочем, пускай — Саске всё равно, лишь бы добиться своего и получить желаемое. Свой долг — хах — если таковой имел место быть, перед Саннином он уже выплатил, и теперь требовал заместо этого более чем справедливую услугу. Для себя и только себя. Итачи мёртв — не для него. Коноха снова воевала, как и мир — не для чёртовых деревень. Клан уничтожен. Не для того, чтобы что-то доказать Наруто. Для себя, чёрт потери. Просто. Для. Себя. Для того, о ком не думал с самого начала, кого не замечали, кто всегда блек и не имел значения до такой степени, что сам не дал своему значению развиться, став тенью, бумерангом и волей брата. Иронично.
— Каждый их них во что-то верил и руководствовался этим, выстраивая реальность, — наконец нарушил достаточно продолжительное молчание со своей стороны, не торопясь отвечать на всё подряд. Не в прямой последовательности. Но так, как посчитал нужным. — Как и заложил это в Коноху, — скепсис и ирония, холодная, мрачная, никакого удовлетворения или расположенности.
— Посмотри, к чему это привело. Снова, — кивок на то, что их окружало. Война. Разрушения. Смерти. Ошибка на ошибке. Флешбеки, а, Саннин? — Они и не могут быть правы, — Орочимару ведь не думал, что Саске рассчитывал получить от них истину в последней инстанции? Они не способны, даже будучи величайшими шиноби с легендарными силами, даже будучи способными прихлопнуть Саске подобно мушке, утверждать и претендовать на правдивость. Это их решения, их передача одного и того же не сумела привести мир ни к чему хорошему; создание деревень не остановило войн, не прекратило конфликтов, и по этой причине Саске не страшился, не уважал и ставил Каге ни во что. А они не имели права предъявить ему что бы то ни было — вся его чертова трагедия, вся его спущенная жизнь, все чертовы ошибки, что он совершал, это результат их действий, их системы. Потому он желал получить от них то единственное, что они могли дать. То единственное, во что верили сами. То единственное — или не совсем, — что имело смысл для Саске: почему Итачи предпочел их заблуждения и каков тогда вообще смысл от мира шиноби? Зачем они, чёрт подери? А зачем Саске? Ведь себя-то они смогли убедить, что не просто знают ответ, но и в курсе, как воплотить его в реальность. Отчего-то Итачи... проникся ли, выбрал меньшее из зол, просто не стал оспаривать истины, в которые его поместил мир и клан? — Потому мне плевать на истинность. Я хочу знать, за что умер Итачи, раз он проникся их заблуждениями. Что обрубить, чтобы его смерть не оказалась напрасной. Для чего. Это и подтолкнет меня к ответу на вопрос о том, кто я сам и к чёрту сдался.
Можно было сказать, что Саске избрал путь меньшего сопротивления, что проще задаваться лишь одним и так далее, и так далее, и так далее. Что же, глупцы и здесь заблуждались: вы посмотрите, какой путь прошёл этот проклятый нукэнин. Какие решения принимал, на что соглашался, насколько рвался к своей цели, насколько исказил себя, чтобы не задаваться лишним; какими вопросами задавался теперь, каких результатов добился, насколько смиренно платил плату в виде себя самого. И если это ни о чём не говорит вам, то, чёрт подери, просто посмотрите на того, кто шёл рядом с Учиха. А вы бы, хоть кто-то из вас, из них, пошёл бы на такое? Хах?
"Они потеряли многое", — долбилось в голове из раза в раз, когда он сопоставлял то, что узнал об Итачи, то, что видел в детстве, то, что додумал теперь сам, услышал со стороны или предположил. Не важно. Коноховцы никогда не ценили тех, кто ценил их по-настоящему. Кто способен был дать что-то по-настоящему. Они потеряли того, кто был богом; не совершенным, но готовым взвалить чужие грехи на себя, утонуть в собственных, отдать всё и даже больше просто за... что? Хоть кто-то из них вспомнит об Итачи сейчас? Нет, его не назвать героем: он вырезал свой клан, кем бы не был манипулируемым; иное решение могло найтись, но оно никому не было нужно [так проще]. Саске тоже мог не уйти к Орочимару, не становиться на одинокий путь мести, но... и здесь — никому не нужно было обратного. Лист не понимал, какого будущего лишил себя, избавившись от Итачи, от Учиха; от возможности видеть сквозь иллюзии также хорошо, как и проклятые глаза.
— Мне плевать, — без стеснения равнодушно, про рассуждения Орочимару на тему мотивации и иллюзорности своего бывшего-почти-сосуда. Саске плевать на то, что о нём думал Змей, насколько желал бы высмеять его наивность, инфантильность, да что угодно. Ему плевать и на мотивы самого Саннина. Саске кое-что понял о них, но какая разница? Теперь-то, сейчас-то, хах. Просто осмотритесь. Мир тонул. Саске потерял себя. Ничто не было нормально. Мотивов Орочимару хватило на то, чтобы не ввязываться с Учиха в бой и просто дать ему того, что требовали. Чёрт подери, какая на что бы то ни было разница теперь?
— Его грехов оказалось недостаточно, чтобы сделать его хуже их всех, — слишком спокойно, слишком сухо, слишком... смиренно прозвучало и воздух, казалось, похолодел, что можно ощутить буквально физически. — Ты жив потому, что я хочу больше знать о том, во что верил Итачи. И что теперь делать с его смертью. Мне, — шаг замедлился, и спустя несколько метров нукэнин вовсе остановился, неизменно глядя перед собой.
Постоял так какое-то время. После опустил взгляд тёмных глаз на землю. Посмотрел на свои руки, местами заляпанные и потрепанные, опять-таки не двигаясь никуда. Усмехнулся и на какое-то время прикрыл глаза.
— Знаешь, Орочимару, это ведь смешно, — на лице вырисовалась не выразительная, но очень ядовитая, обжигающая, непонятная, настолько пустая, что из нее выпадало все, что когда-то могло наполнять Саске, улыбка. — Целому миру, давно желавшему залиться кровью, в качестве спускового крючка хватило лишь одного обезумевшего мальчишки, что из мести и отсутствия действий с их стороны пришёл за тем, чтобы порешать всё за них, — неизменно не открывая глаз, однако чувствуя прилив своего единственного содержимого к ним; шаринган. — Мальчишки, убившему двух опаснейших преступников, чего не сумели сделать они, и не убившему и четверти того количества людей, сколько приходится на среднестатистического джонина, — с сарказмом, насмешкой, иронией, никуда не девавшимся ядом и презрением. Глухо хмыкнул, после чего открыл глаза и вполовину обернул лицо к Змею. Ненависть, безумие, боль, искажения и нездоровое, абсолютное целеполагание, что не могло не пробирать даже мертвых. О, Саннин оказался прав: глаза Учиха Саске в самом деле имели больший потенциал, чем у старшего брата, превзойдя их. Даже не потому, что это, чёрт подери, и есть глаза старшего брата. Вдумайтесь. Насколько мир сошёл с ума? А Саске?
— Суть в том, что они идиоты, Орочимару, — сдавленно гоготнул. Глаза — это чёрное пламя в крови, холодное, разъедающее; его невозможно погасить без воли Саске. Это пламя бушевало, танцевало. Внутри нукэнина ему много места, ведь не осталось ничего. Оно могло творить в нём что угодно, водить любые хороводы. За глухим гоготом ещё один, пока Саске не засмеялся в каком-то очень отчаянном [до боли], ироничном, не громком, от части сдавленном, но показательном — для собственных слов — смехе. Поднес руку ко лбу, к прядям, немного закинув голову назад и неизменно глядя на Саннина. Насмешка над ними всеми; Саннин поймёт. А если даже нет, то пускай видит, к чему, так или иначе, тоже приложил руку. И насколько другие ломали лучше него, что даже Саннину не удалось исправить их ошибки. Некое подобие едкой улыбки на лице. О, Учиха прекрасно себя осознавал — и это самое вкусное и ужасное в его нестандартном, как могло показаться поведении. Поведении, которое, тем не менее, должно было всплыть; все его триггеры затронуты, всажены глубоко, ни одна голова не держалась бесконечно. Выражая это по-разному. Орочиамру ли не знать по себе, хах? Он глубоко заблуждался, если считал себя не сумасшедшим. Что, впрочем, его право. Саске плевать, абсолютно. Это даже не смешно, это страшно — когда настолько всё равно. — И система у них идиотская. И решения идиотские тоже, — немного прищурил глаза, неизменно светившиеся в темноте и делая кровь, оставшуюся после прежних сражений, блеклой да темной. — И, похоже, со времени их тупость никуда не девается. В отличие от прогрессирующих последствий, — а теперь посмотрите не на окружающий мир, не на войну, не на ожившего, блядь, Орочимару. Посмотрите на Учиха Саске. Внимательно. Он — он, их, последствие. Они думали, что смогут сманипулировать Итачи, способным любить и быть верным? Думали, сыграют на Саске? Что же, они сыграли. Пускай теперь давятся.
Впрочем, уже спустя десяток секунд всякая мимика на лице Саске перестала существовать, ядовитой улыбки словно бы и не было. Лишь только глаза холодные, не насыщенные ничем хорошим, неизменно смотрели на Саннина со всей ненависти, что никогда не покинет их; со всеми болью и потерями, что испепели и разъели его мир.
— Мне понятно, почему ты хотел стереть эту чёртову деревню в порошок, — холодная, пробирающая, но в самом деле понимающая констатация. Ещё несколько секунд молчания, после чего стёр засохшую под глазом кровь, убрав руку от лица и, поведя плечами, двинулся дальше, снова уставившись перед собой. Его глаза хорошо видят сквозь иллюзии. Но надо ли? Разве они все — включая Орочимару — сами не пытались затолкать взор Саске в гендзюцу? Упс.
Учиха говорил много? Пожалуй. Не этого ли от него хотели-ждали-просили? Слов, хах. Реакции, хах. Не этого ли ждал Орочимару? Саске давал сполна. Чёрт подери, какая теперь разница. Кто ещё выслушает, в конце-то концов. И кто ещё скажет Саннину это всё так просто, так прямо, без страха и подлизываний. Больше не сосуд. Между ними давно даже не паритет; теперь-то уж точно.
— Иронично, что это настолько бессмысленно, что не способно изменить ничего. Потому благие намерения радикальным методом пришлось урезать до личного удовлетворения, не так ли? — с некоторой издевкой в адрес Змея, бесстрастно. Без претензии. Саннин и сам знал. Саске теперь делал тоже самое: только он с самого начала в курсе, что плевать ему на громкие цели в отношении Конохи; всегда было. У него не имелось подтекста, её участь — это его личная прихоть, мотивация и понятное последствие. С того самого момента, как фокус Итачи-Всё расширился, как и просили сделать Учиха окружающие. Он сделал: от "плевать на существование, пускай идут своим путём" пришёл до того, что месту стоило сгореть дотла; к примеру. Если войны окажется мало. Просто так. Без великой цели. Потому что всё великое они упустили. Все свои не бесконечные разы, и крайний — последний — оказался для них критическим.
"Они сами не понимают, чего себя лишили собственной тупостью".
Плевать, если Саске и чёрта лешего не понимал мотивацию Итачи, заблуждаясь и надумывая. Не важно, любил ли его старший, заботила ли его деревня на самом деле. Он видел последствия, результат — Учиха понимали только это. Потому имел право трактовать то, в чём ему никогда не признавались [не посвящали, не считали нужным], как угодно. Точно также, как это делал весь мир. Если забрать последнее заблуждение, то случится страшное. Потому оно — так или иначе — у нукэнина оставалось.[nick]Uchiha Sasuke[/nick][icon]https://forumupload.ru/uploads/0019/e7/78/1070/91971.jpg[/icon][lz]<center><a href="http://versus.rolka.su/"><b>Учиха Саске</b></a></center>эта кровь не стала козлом отпущения; эта тьма не была хаотичной.</a>[/lz]
Затишье вокруг давит на барабанные перепонки и заполняет их ватой, в котором отдаленный на самом деле грохот сражения кажется глухим и незначительным гулом. Кольцо мертвой тишины сжимается вокруг них все теснее, словно исключая их из окружающей картинки, делая картонными фигурками на фоне трехмерного и живого пространства, что грозит поглотить и уничтожить все вокруг. Или наоборот? Все вокруг — картонное, не живое, неумело нарисованное тушью на рисовой бумаге, из-за чего они оба кажутся чужеродными, но с усилием вписанными в пейзаж, а для того изломанными, вывернутыми, перерисованными заново, чтобы соответствовать, но так и не соответствуя в итоге.
Орочимару молчит долго, скрещивает на груди руки и нервно постукивает длинным пальцем по предплечью, сводя брови к переносице. Саске прав, в происходящем вокруг совсем нет правильного, пусть все и кажется закономерным, приевшимся, набившим оскомину и неизбежным как дыхание. Должно быть то, что они видят сейчас вокруг, еще могло бы считаться и было прогрессом, было улучшением и, насколько Орочимару помнит себя и свое детство, насколько помнит глаза и рассказы Сарутоби-сенсея, даже его жизнь была лучшим итогом чем все, что предшествовало ей. Но какая разница, как велика или ничтожна трагедия, если она ломает безвозвратно? Куда важнее как она ощущается, как она подрывает то, что составляло суть человека, то, что делало его самим собой, проверяет, сколько сможет выдержать его психика, прежде чем рассыплется. У кого-то этот лимит меньше, у кого-то — больше; кто-то гибок достаточно, чтобы гнуться и навешивать шоры, а кто-то ломается раз за разом и чем сильнее он позволяет себе приспосабливаться, чем больше находит смыслов, тем больше ломается и крошится в конечном итоге.
Каждый из них сталкивался с подобным, каждый шиноби в их треклятом мире — все они сломаны и сломлены. Этот мир дробит всех, меряет всех одной меркой, навязывает одни стандарты и выплевывает тех, кто не желает следовать общему пути. Это работало всегда, работало со всеми: Орочимару столкнулся с бессмысленностью человеческой жизни и перестал быть человеком, а Саске? Что будет с ним помимо иссушающей душу пустоты, которую не скрыть даже за пылающей в темных глазах ненавистью?
— Ты говоришь о них так, словно думаешь, что все сделанное ими — сделано ими осознанно. Что они не часть той системы, тех законов и тех правил, по которым строится мир. Даже Акацки — все. Даже те, кто хоть что-то понимают.
Даже я, пусть и отчасти. Пусть в меньшей степени.
Змей говорит негромко и больше для себя, видит в глубине чужой сути приговор и себе тоже, но лишь пожимает плечами. Что ж, Орочимару ломал, но лишь для того, чтобы сделать крепче. Жаль, что сталь не приняла закалки и пошла трещинами, но ещё не всё потеряно. Клинок ещё можно перековать, если тот пожелает, но уже без участия Саннина — его роль сыграна и теперь он стал зрителем, а в лучшем случае статистом в чужом действии.
Саске не был сейчас тем ветром, что нес бы его в своем направлении, но ураганом, что позволил приблизится к центру, что дозволил стоять в оке разворачивающейся вокруг бури. Позволял идти за пустотой, идти подле пустоты, что жаждет заполнится или заполнена хоть чем-то, чтобы не ощущаться ничем,… ведь что у Учиха Саске все это время было своего? Что вело его кроме брата? Что было в этой черной дыре кроме брата? Об исходе Орочимару знал смутно, о многом — догадался, глядя на все то, что происходило вокруг него сейчас, на Саске. Так может вести себя лишь тот, чей смысл существования остался в прошлом, был потерян или извращен.
Орочимару усмехается в самого себя, не растягивает в улыбке губ, только поднимает глаза к мрачному ночному небу, совершенно безразличному к тому, что происходит под ним. Это тоже было закономерно? Это тоже должно было свершится именно так? Насколько бы легче Саске было стать просто его сосудом, знать, что Саннин сдержит обещание и покончит с Итачи, упокоится навеки?
Невообразимо больше. Невозможно больше. Никому не нужно больше.
Орочимару не был обременен теми чувствами, что всегда вели Саске, ибо вовсе не видел в них смысла, но Саннин обременен чувствами к самому Саске, а потому не отрывает от него взгляда все то время, что тот говорит, изливая во вне ужас, боль, горечь и муть, что поднята со дна его души и что замутила навеки некогда кристальную воду.
— Даже если так, Саске-кун, я получил от этого удовлетворение и я еще могу его получать, — усмешка и издевка отзеркалена и отправлена адресату, который вряд ли ее заметит и вряд ли обратит внимание на то, как мало в этих словах той самой усмешки и как неожиданно много иного, сказанного ради интонации, ради тембра голоса, ради треснувшего и растекающегося по горлу понимания.
Орочимару не хотелось бессмысленности, не хотелось становится частью системного цикла повторений, винтиком, оружием и всем тем, что не может сопротивляться этому течению и этому движению. Саске хотел ответов, но хотел ради мести, как и сам Орочимару когда –то видел в своей мести решение. Разрубить узел, уничтожить источник, уничтожить Коноху. Да, не удалось, да, удалось кому-то другому и, не исключено, что вновь удастся Саске. Но будет ли в этом тот смысл, что желанен им, получит ли он удовлетворение для себя (нет, не получит, пустоты и бездны ничем не заполнить, не в том состоянии, что она сейчас: голодная, злая, отчаянная) или изменит все вокруг себя? Коноха, как гидра, как столь любимое Орочимару вечное чудовище, что становится лишь больше, сколько бы голос ему не отсекали раз за разом. Что будет, если отсечь их снова, успеет ли Саске прижечь раны, чтобы чудовище не восстало вновь?
Нет. Нет на все.
Даже сейчас, даже отыскивая первопричину всего, даже изломанный и искореженный как попавшее в шторм дерево он ищет ответа и справедливости вовсе не для себя, но для другого. Или для себя через другого, что одно и тоже в глазах Саннина, не знакомого и далекого в эмоциональном плане ото всякой привязанности, кроме одной. Но о том лучше не говорить и не сравнивать. Удивительно. Как он изменился и как остался неизменен в этом единственном самопожертвовании, что пронес через всего себя и свою короткую жизнь, даже если звал это всякий раз по-разному. В любом случае, даже теперь Саннин мог отыскать эстетику, мог отыскать красоту и восхититься ею, восхититься Саске в это мгновение и в эту секунду, а после выдохнуть, склоняя голову на бок.
— Хорошо, так тому и быть. Если ты хочешь узнать что-то для себя, то я помогу, Саске-кун.
Орочимару ничего не делал против своей воли и если помогал Учиха сейчас, то не ради мифического долга, не ради высоких целей, но ради него самого и себя самого, ибо ответы и пути — то единственное, что всегда разжигало холодную кровь Саннина. В конце-концов тут не было даже и речи о какой бы то ни было мести, не было даже мыслей мстить за собственную смерть (тоже спланированную), не было смысла опускаться на столь мелочный уровень в их взаимоотношениях, даже если в них было нечто лишь на взгляд Орочимару.
— Для того, что ты хочешь, чтобы я сделал, мне нужны руки, нужна маска из храма Узумаки и нужны души. Жертвы. — Орочимару идет вперед, говорит сухо и по-деловому, не останавливаясь, чтобы дождаться тех, кто не решается приблизиться к ним. Для тех, кого Саске притащил с собой — все просто, они лишь следуют за ветром, как и сам Орочимару, но для Змея иного и быть не может: Саске это единственный ветер, что способен унести его хотя бы куда-то. В его словах нет привычного злорадства или предвкушения, нет того томного ожидания, что всякий раз сопровождало для него стремление вытянуть из Учиха все темное и безжалостное — в этом больше нет смысла, ибо все что могло проснуться пробудилось и без того, но явило картинку не ту, что желал видеть Саннин.
Заброшенный храм на окраине деревни как живое напоминание о всяком величии, о всяком долге и о всякой важности. Все превращается в гниль и прах, покрывается пылью и забвением, едва отслужив свою службу. Орочимару заходит внутрь не оборачиваясь и не оглядываясь, даже жгучее ощущение в фантомных ладонях, что вот-вот должны наполнится силой вновь, никак не трогает его. Сотни масок, сотни погребенных в его стенах тайн, что ждут разгадки… Орочимару равнодушен ко всему, кроме единственной нужной ему маски рогатого демона.
Эти знания подождут. Все подождет.
— Теперь души, — Орочимару покидает храм без сожалений и останавливается рядом с Учиха на его пороге, — Ровно четыре на четырех Каге, — змей на мгновение обращает взгляд на молчаливых спутников Саске, но лишь пожимает плечами. В деревне должны найтись цели и доступнее.