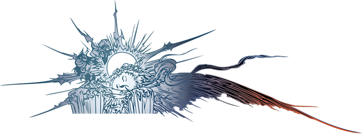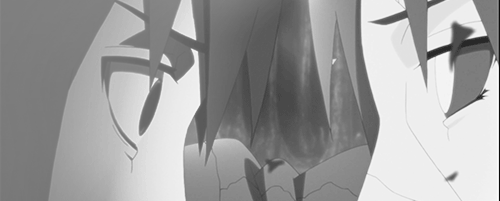прощение не нужно с самого начала [naruto]
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться207.04.21 19:45
Возвращаться к жизни мучительно и Итачи, кажется, начинает понимать, почему дети так кричат при рождении и ещё меньше начинает понимать тех, кто боится смерти. Когда его выдергивают из небытия на поле боя и бросают в тело, ощущающееся как пустой чугунный котел, Итачи долгую секунду кажется, что его голова переполнится впечатлениями и лопнет, подобно всплывающей на поверхность озера мертвой рыбе. Наверное, кто-то из тех, кто в этом мире распоряжается судьбами передумал и решил, что «ничто» для него — слишком лёгкий исход, что куда лучше ему отправиться прямиком в ад за все содеянное и не нашел для этого ничего лучше, чем заставить его снова смотреть в шокированные глаза брата. Если что-то и способно заставить Итачи испытывать хоть долю переживаний за то, что он сделал, то это пронзительный взгляд Саске направленный в самую душу Итачи. Глаза… ах да.
'Он все знает.' — приходит ясное и колкое как чистейший лед осознание, от которого Итачи бежит, прикрываясь надуманной целью, чтобы не оборачиваться, чтобы не встречаться взглядом, чтобы оставить за собой последнее слово, пусть даже и не произнесенное.
‘Он знает только то, что знают другие.' — успокаивающе мелькает следом и к тому моменту, как Саске почти нагоняет его, лицо Итачи снова непроницаемо и сосредоточено, против того, что было мгновения назад.
Все дальнейшее смазывается в сплошное серое болото, из которого он выныривает лишь на словах брата, обращенных к нему. Он предпочел бы рассыпаться седым прахом в одно мгновение, чтобы сомнения и невесть откуда взявшееся желание продолжать существовать не подточили его волю, но это невозможно. Саске снова провоцирует его на что-то лишнее, на что-то откровенно ненужное сейчас, когда стоило бы молча уйти, оставив Саске в наследство вопросы, догадки и недомолвки, чтобы провозился с ними до самой своей смерти, неупокоенный и неуспокоившийся.
Этого разговора не должно было быть, Итачи должен был быть мертв к тому моменту, когда [если] Саске узнает правду [не истину, истина известна только самому Итачи, и, если Саске узнает о ней, его выстроенный на страданиях и мести мир рухнет окончательно, даже если сейчас умудрился собраться из щепок и пепла]. "Пусть всё остаётся так, как есть", старательно убеждает себя старший брат, четко проговаривая приказы для Кабуто.
Обезьяна, тигр, дракон…
У него ведь приказ: защитить Скрытый Лист? Как иронично, даже собственное дзюцу действует на него лишь до тех пор, пока он этого желает, пока дело на касается Саске. Всегда и вечно одного только Саске. Коноха только предлог и всегда им была, уж после смерти в этом себе можно, признаться. Дежурные фразы, пафосные речи, но если младшему так уж хочется мстить селению, то пускай. Правда цель не такая уж долговечная, но Учиха по-прежнему желает, чтобы Саске жил. Может быть самую малость и ради его, Итачи, памяти, а эта цель не хуже и не лучше прочих. Итачи тоже нужна была цель — при жизни, а после смерти это перестало иметь значение, потому что после смерти не было Саске. Но и желанного умиротворения тоже не было, было просто ничто выныривать из которого в удушающий мир казалось кощунством, перечеркивающим тот замысел, в который он вложил собственную душу. Буквально.
Чего Саске ждет от него? Извинений? Едва ли, в его тоне нет и намека на обиду, только лишь смирение. А Итачи за собой вины не чувствует. Ему нет нужды оглядываться на свою жизнь и сожалеть о сделанном, тем более теперь, когда от жизни остался только пепел. Путь к совершенству оказался тернист, но финал пришелся Итачи по вкусу, жаль, что Кабуто посмел испортить его своим вмешательством. Но если так, то он может позволить себе немного того, что не имело смысла в прошлом, если уж ему оставили пару слов в прологе, посчитав, что пьеса не имеет права заканчиваться. Но достаточно ли он жесток, чтобы показать брату всю правду? Достаточно ли в нем любви, чтобы выложить перед ним все карты или ненависти, чтобы эгоистично приписывать все то, чем стал Саске, самому себе? Но Итачи знает, что имеет на это полное право. Такова горькая ирония: он сломал своего брата давным-давно и не слишком жалеет об этом. Для него все кончено и вместе с тем все кончено для Саске. Или нет?
Итачи мог бы сказать ему, что это был его выбор, на стоит снимать с него ответственность за содеянное, но разве Саске поймет? Эти ноты безграничной любви в его взгляде, они вновь и вновь пробуждают в Итачи самое темное и самое жадное, что только может быть в человеке. Если бы Саске только знал он выколол бы себе глаза, чтобы не смотреть на Итачи так, чтобы не знать, что почти [все] что [только] делал Итачи, было ради этого взгляда и ради того, чтобы в темных зрачках Саске не отражался никто и никогда, кроме него самого. После смерти обманывать себя становится бессмысленно, даже если в обмане Итачи очень хорош.
Слова Саске о мести не требуют ответа, не требуют комментария, не требуют ничего, Итачи следует просто позволить Кабуто завершить печати и развеяться в слепящий свет, а Саске сделать вид, что он никогда не возвращался к жизни и они не сражались бок о бок. Но Итачи, вообще-то, законченный эгоист, а уж тем более теперь, когда его не сдерживают смертные сомнения и необходимость привести все к логическому концу, необходимость переставлять ноги по тропе в неизвестность, только догадываясь, чем завершится начатый даже не им самим расклад. Он уже ничего не изменит, оставшиеся в живых могут трактовать его жизнь и смерть так, как им заблагорассудится, а он словно бы получил полную свободу дабы делать то, чего не смог сделать при жизни.
И эта свобода оказывается фатальной.
Разве он может оставить Саске? Разве может дать ему покой? Его глупый маленький брат еще не готов уйти, он еще цепляется за Итачи, а Итачи охотно позволяет ему это, даже если сердце подтачивает сомнением. Ему нравится то, что Саске не говорит «я», но называет себя его младшим братой. И все же… Неужели он сам хотел именно этого?
— Ты говоришь, что понимаешь меня? — Итачи цепляется за эти слова, оборачивается из-за плеча и смотрит на Саске в упор, чего старательно избегал все это время. Похож ли Саске на мать или на отца? Какая глупая и пустая мысль, куда больше Саске похож на него самого, хотя и самого себя Итачи давным-давно не видел четко. Но это и не столь уж важно, ведь у Саске его собственные глаза. — Хочешь уничтожить Коноху за всю ту боль, которую они причинили мне? А как же та боль, которую причинил мне ты?
Итачи говорит спокойно, но на деле ему нравится слышать в голосе Саске ту эмоцию, которую он не может распознать и назвать, но которую ощущает, видит отражающейся во взгляде темных глаз. Его, Итачи, глаз, но с тем неуловимым выражением, что присуще только Саске.
Свои глаза в чужих глазницах, словно так и было от рождения и от века, все на своих местах, все там, где должно быть. Итачи это нравится, он отстранено сожалеет, что у него слишком мало времени и он не знает, где сейчас глаза самого Саске. В этом чужом гниющем теле, с этим слепком души, Итачи не отказался бы от чего-то настоящего, не отказался бы от глаз Саске на месте того суррогата, через который глядит на мир сейчас. Это не его тело, даже если его чакра и его душа, даже если теперь он может видеть мир так четко и ясно, как не видел уже много лет. В чем смысл, если картинка вокруг лица младшего брата размазывается, оставляя ему право видеть только его? Будто Итачи вообще хочет видеть хоть что-то другое.
Он тянется вперед, прикасается к чужим векам почти как в том давнем гендзюцу, только теперь видит все куда яснее, а не просто ощущает под пальцами текстуру кожи и чужие трепещущие ресницы. И почему у Саске они такие пушисте, словно ему до сих пор шесть лет? Что-то в отото не меняется, хотя пройди даже сотня лет, он всегда будет видеть в Саске наивного младшего брата.
— Если тебе так хочется стереть Коноху с лица земли, подумай о том, что я вырезал клан не ради нее, но ради тебя, Саске, — Итачи не улыбается полноценно, но легкая насмешка таится и в голосе и в уголках губ, будто старший может в любой момент забрать сказанное назад, обратив все в шутку.[icon]https://forumupload.ru/uploads/0019/e7/78/1184/71133.jpg[/icon]
Поделиться307.04.21 19:49
Правых и неправых нет. Да Саске они и не волновали, вероятно, никогда: чужая правота и всё такое — это только их точка, только их мир, только их его трактовка. Он не был судьей, едва ли имел право судить да и, если честно, откровенно в этом праве не нуждался, ему не интересно. Правота или ошибочность позиции того или иного человека, его иллюзии, если хотите, на деле вообще не имела значения, приобретая вес лишь в одном случае: когда влияла на кого-то ещё. Чем больше людей в доступе, будь то власть или некое условное влияние, тем опаснее и заранее становились иллюзии одного человека, затягивая в это других. Саске не знал многих людей, но, вероятно, так было с Наруто. Так было со всеми идиотами в Конохе, что верили в дух огня, на деле совершенно не работавший, двуличный и далекий от понятия чести. Может Саске бы и проникся им когда-то, но... в его жизни имелась иная иллюзия, чужая, сильная и посредством манипуляций оставшаяся единственной. Реальной, перетекшей в плоскость бытия юноши. Он не жаловался. Он не нуждался в иных, пускай двери и собственные глаза открыты для них, способные видеть. Но не желающие. А если даже пожелавшие бы вдруг, то ничего не способные выхватить, ни за что не способные зацепиться, ничего не способные дать тем несчастным сучкам запутавшихся, ходящих кругами людей. Саске не ходил кругами, его путь — по прямой, прямиком от точки А до В, куда не возвращаются; яркий, тяжелый, грузный, прямолинейный, бесповоротный. С ошибкой, допущенной не им вовсе, а потому под конец затронувший и отразившийся на всех тех людях, что жили в своих иллюзиях. Тех людях, что оказались под влиянием иллюзии Саске, а Саске, в свою очередь, под чужой, выстроенной скрупулезно и грубо выброшенной в мире — пускай тонет; так правильно. Или нет. Какая разница? Никакой. Война уже кругом. Мертвецы уже забирали следом живых. Саске уже сломан. Саске уже ничего не надо, кроме капли правды. А если даже и без неё, то в нём ничего не осталось, кроме ненависти, процветавшей на осколках самой большой и неоцененной любви.
По-хорошему, нукэнину уже полгода как стоило бы быть мёртвым.
По-хорошему не вышло.
И вот потому он теперь здесь. Стоял. Замирал, таял, догорал и трескался.
Жестоко.
Происходившее — это очень жестоко. Кабуто воистину превзошел Орочимару; вышел за границы, шагнул так далеко, что даже у младшем Учиха вызвал едкое презрение, омерзение, сожаление — что не убил, когда имелась возможность — и отторжение.
Жестоко.
Вот так вот видеть живого брата, которого пускай формально, но убил собственными руками; кого убивал в своих мыслях десятки, сотни, тысячи раз изо дня в день, из года в год. Брата, который местью осел наследием, не оставив заместо себя и чёрной гари ничего. Брата, не успевшего прожить жизнь, умершего недостойно и в обмане, но хотя бы — как хотелось верить младшему — получившему своё право на успокоение там, в Пустом Мире. С кланом или без, в иной форме существовании или бесконечной тьме, но мёртвым лучше, да? Там нет долга, нет вины, нет обязательств; нет страданий и боли, что разрушают, отпечатываясь на глазах в обмен на силу и возможности, ведущие никуда.
Вот так видеть живого брата, которому лучше бы — по всем законам, привалам и соображениям — быть мёртвым, но видеть которого живым Саске хотелось больше всего на свете. Больше мести, больше уничтожения Конохи, больше даже собственной смерти.
Вот так вот видеть живого брата и понимать, что... не соврал: другого раза не будет. Он жив, оставаясь мертвецом, и жизнь эта — плевок, насмешка, кинжал и боль такой силы, что разрывала и стаптывала то, что ещё можно было истоптать. Самое — единственно — желаемое присутствие другого в жизни Саске — и то подделка; блаженство, тяга, тремор, трепет, надежда, что держались не на чем, закончится, так и не начавшись, взболтав и перемешав всё то, что только уложилось в хоть какую-то последовательную линию. Ненависть, сожаление и горечь внутри от этого преображались. К Конохе. К миру. К себе. Не к Итачи: он мог быть кем угодно при жизни, но отчего-то Учиха уверен, едва ли желал бы быть возвращенным с того света. Вот так. По-настоящему, но плевком, не совсем живым вовсе. Вот так. В войну, что вроде бы как пытался предотвратить, отдав за это, в общем-то, всё. В мир, что вроде бы как пытался защитить. К брату, которого вроде бы как...
Не смел останавливать, окликать, ничего.
Саске мог и хотел сказать так многое, но вне того, что озвучил, в этом не имелось смысла. Не для Итачи, да? Ему всегда было всё равно на то, что говорил младший глупый брат. Ему и не должно было быть интересно, не так ли? Что же, Саске подрос; самую малость. Не будь Итачи собой, не буль он старшим братом, не будь он Всем, и младший непременно повел бы себя иначе: жестче, решительнее, быстрее. Но от присутствия Итачи внутри Саске что-то в самом деле неконтролируем менялось, словно бы смыкалось и... Давило, щекотало, отзывалось фантомной болью по всему телу и внутри, но при этом являлось тем, что юноша признавал. Это и ничто больше. Почти всю жизнь построенное на собственных догадках, чужих иллюзиях и — лишь дважды, какова ирония — на боевых отпечатках шарингана; и чужих глазах, что теперь стали своими.
Эти самые глаза, заполненные уже иным содержимым, потому не Итачи больше, смешали в себе всю боль, тяжесть, ненависть и серость, что носили в себе "последние из Учиха", став единым целым. И теперь смотрели ни то с обидой, ни то с любовью, ни то с непереносимый тоской, ни то завистью, ни то сожалением, ни то смирением. А может быть в них было что-то ещё или всё сразу. Какая разница, да? Это проблема Саске. Это его груз. Не Итачи. Итачи он... уже... скоро... снова.. опять. Как тогда.
Но вдруг брат всё-таки развернулся. Не закончив. И от этого глаза, смиренно и молча — отныне — наблюдающие картину реальную, но словно бы сон, закрутивший все нутро вокруг себя, раскрылись шире, залившись иной, другой, еще одной формой удивления, непонимания, некоторого... недоумения. Не ошарашенности — осталось ли в Саске место для этого вообще? — но чего-то вне слов и описания; в самом деле, так способен только он. Только для, о и при Итачи. Вся его жизнь — для него. Хотел того или нет, но вот вам и сраное подтверждение.
Сказанные слова задевают, отдаются колкостью, но... если честно, Саске не знает, способен ли он удивляться; было ли ему, куда ещё: он искал так долго, так долго верил, обманывался как и завещал брат, и теперь, но теперь, а теперь... Восставший посреди войны, зачатой Саске, а значит и Итачи, не имевшего её в планах и продолжающего остаться собой, даже не имея всех карт на руках. Даже, в итоге, ставшим таким же манипулируемым как и сам Саске, только акулой крупнее. Наверное, это у Учиха кровное, да? Впрочем, плевать.
— Даже если это так, ты уже отомстил мне за эту боль, — негромко, тихо. Если Итачи мало, пускай, наконец-то, отомстит по-настоящему, словно бы прежде не выбрал самую жестокую и бесчеловечную из форм мести во всей вселенной. Давление, удивление, смирение, боль, щемящий, невыносимый трепет, не отводя глаз, когда шаринган уже потух. Чем Саске причинил старшему брату боль? Мальчишка не знал. В клане были куча детей, родившихся и нет, и все они были столь же невинны и непричастны, как и Саске. Вот только они оказались достойными смерти, а младший брат — нет. Это ведь на самом деле и вправду очень личное и... этим Саске причинил боль? Своим существованием? Разве было, чем ещё? Может и так. Однако он не просил о своем существовании, а в ту ночь умолял о том, чтобы его оборвали. Итачи ненавидел за то, что не смог? За то, что из-за Саске им сманипулировали, заставив выбрать самый удобный для кого угодно, кроме него самого и клана путь? За то, что если бы не Саске, у Итачи было бы больше времени подумать? Или умереть вместе с кланом, не растягивая свое существование еще на десяток лет? Саске не знал. Однако если брату больно слышать о решении младшего, если ему больно осознавать, что всё это было зря и Коноха окажется уничтожена — что же, пускай так. Если честно, это не задевало Саске. Он чувствовал себя виноватым во слишком многих вещах, в том числе и перед братом, чтобы найти место ещё и для этого. — И какая... теперь разница. Это не изменит моего намерения. Это ничего не изменит, — война уже в разгаре. Непонятные, бессмысленные события, не интересные Саске, уже происходили. Мертвецы уже подняты. Нукэнин уже — всегда будучи последовательным и послушным, когда речь заходила о персональном боге-дьяволе — переполнен ненавистью и болью в той степени, когда ничему более места не осталось, выразить невозможно, и это единственное, что двигало вперед и покрыло зияющую пустоту. Уже ничего не заменить. Учиха бы, если честно, и не хотел. Ведь это не вернет ему Итачи. Он молился и просил лишь о том, чтобы брат жил снова, но то, что стояло перед ним... брат... Это не та жизнь. Это плевок и напоминание, соль на рану и усугубление, от которого хотелось сжечь самого себя, перегрызть себе глотку, стереть себя в порошок, унеся заодно и весь мир следом. Мир, что позволил всему этому произойти и неспособный справиться собственными силами с последствиями собственных действий, решений и философии. Какая ирония. Только мальчишке не смешно. Его трясло, его тянуло, его испепеляло. Топтало.
Саске не страшно. Не страшно, если Итачи сделает что-то с его глазами, если решит, что так надо. Мальчишке вовсе этого не хотелось, он не желал бы, но... каков смысл? Учиха без глаз не Учиха, а значит, в более или менее мучительной форме его история на этом закончится. Это можно будет назвать справедливым обменом, прихотью, как угодно — всё равно. Саске не боялся. И отчего-то точно знал, что ничего подобного брат сделать не желал; больше; теперь; когда мёртвый. Оно ему не нужно. Даже это. Для него сейчас Саске ведь бесполезен, как для всякого мёртвого живой, в то время как для младшего... Итачи не нужно быть живым, чтобы оставаться центральной фигурой в чужой жизни, быть его жизнью, единственной причиной, пускай даже во имя мести и сожжения всего чёртовым черным пламенем, из-за чего до сих пор не покончил с собой. Саске не страшно. Не за Итачи, не за себя, не за то, что Итачи мог сделать. Самое страшное он уже сделал; самое страшное уже испытал; самое страшное пережил, и теперь заслуживал покой. А Саске... заслуживал... не заслуживал... его и...
— Я не просил тебя об этом, Итачи, — "ты сделал это потому, что так захотел. Ради тебя". Голос спокойный, уже не того маленького мальчика или верещащего подростка. И в глазах не то. Во всём — не то; лишь только вдолбленное в нутро бытие младшим братом налипало раздражающей, но неисправимой составляющей, и Саске к своему счастью не знал, как это отражалось на его лице, глазах и голосе. Но ощущал это внутри. Мучение. Почти до отчаянной дрожи и тремора в руках. — Я просил забрать меня с собой, — медленно, глаза то ли прикрыты, то ли опущены, никак Итачи не мешая. Вот только одна рука предательски легла поверх его. Касание вне ненависти, вне поле битвы. Когда уже слишком поздно. Как же больно, — или оставить со всеми, — в этом нет обвинения. Это сухая, фактическая констатация. Саске думал об этом сотни, тысячи раз; просматривая чужие воспоминания со слезами на щеках, вспоминая слова Тоби, собственную жизнь, все те моменты и детали, что всплывали в памяти из совместного времени с братом, с кланом. Саске не смел судить, не брался судить. Он хотел понять, хотел разобраться, почему так, но так и не способен найти ответа: почему так? Итачи снова задает вопрос, не дает ответа, издевается будто бы, в голове всё то же: почему так? — Я не... — беззвучный, едва уловимый вдох-выдох. Сглотнул, — не смею судить тебя. Тоби спросил меня, что бы я сделал на твоем месте и... — губы чуть дрогнули. — Нет, я не могу судить тебя за то, что ты сделал, сколько бы не ненавидел твой поступок, — да Итачи оно и не надо, ему всё равно ведь? И на осуждение, и на прощение. Рука сжалась сильнее, но брат теплый и не рассыпался, и это сводило с ума, усиливая диссонанс, желая продлить мгновение; изменить всё, что изменить нельзя, и вернуть то, чего не было.
— Только за одно, — вторая рука легла туда же, лишь только ниже, у запястья. С дикой смесью осторожного касания и решимости, — только одну ошибку ты допустил, — горько, иронично, обреченно и смиренно — парадокс, а не сочетание — в то время как глаза снова поднялись на Итачи. — Меня.
Глупый младший брат, который конечно же не мог поступить правильно, не мог резко остановиться [не дали], и теперь все покатилось к черту; явно не на то рассчитывал Итачи, да? Увы. Одна ошибка. Один элемент, что не был чужд; одна ошибка — небезразличие; бытие человеком, а не машиной или куклой. Вот так просто.же[nick]Uchiha Sasuke[/nick][icon]https://i.imgur.com/7SL0tWP.png[/icon][lz]<center><a href="http://versus.rolka.su/"><b>Учиха Саске</b></a></center>эта кровь не стала козлом отпущения; эта тьма не была хаотичной.</a>[/lz]
Поделиться407.04.21 19:49
Итачи всегда хорошо ощущал Саске, улавливал его эмоции и предвосхищал их прежде, чем сам младший ощутит и почувствует их, прежде чем они доберутся до его открытых и доверчивых [для Итачи, обращенных в сторону только одного Итачи] глаз. Глаз, которые однажды остановились на нем и с тех пор следовали за ним неотступно, будто он был Полярной звездой, а Саске — магнитом. И сейчас ничего не изменилось, как не поменялось и той темной кровавой ночью и не менялось много лет после. Саске не мог закрыться от него, потому что не хотел, даже не допускал мысли об этом, сколько бы не кричал об обратном. Ненависть вовсе не антипод любви, а только ее отражение, обратная сторона медали в той больной и невыносимой ситуации, в которую их бросил мир, перемолов жерновами из долга, необходимости, привязанности и тупиков.
Ненавидеть начинаешь тогда, когда любить нельзя и невозможно, когда любовь становится невыносима настолько, что у тебя просто нет иного выхода. Но и любовь и ненависть — это одно и то же пламя. Когда его вручают в твои ладони открыто и добровольно, то все, что тебе нужно сделать — не дать ему потухнуть. И Итачи сделал все, чтобы оно не потухло, потому что Саске этого хотел и это было нужно ему — присутствие Итачи в его жизни. В каком угодно виде. Если чаша переполнена, то нет смысла пытаться налить в нее что-то, прежде чем вычерпаешь прежнее. Да только как, если содержимое уже закаменело, проросло в плоть и кровь?
Итачи нужен Саске до сих пор, потому что из них двоих старший кажется куда более живым. И вообще-то он мучит тем, что длит свое существование сейчас, не себя. Не столько себя, сколько Саске. Ведь смерть дает освобождение, даже такая, половинчатая, а Саске до сих пор не свободен. Итачи не чувствует в нем огня, не видит его — даже тлеющие угли не разгораются в душе младшего брата в ответ на его замечания. Тот принимает их как должное или отвергает слишком уж бесстрастно, почти автоматически, пряча за бесстрастием пропасть из боли.
Потому что Саске — младший брат и должен оставаться таковым, чтобы Итачи оставался старшим. Это бытие — единственная константа среди всего хаоса, разверзшегося вокруг и благодаря им. Хаоса, который уже не имеет значения для Итачи, потому что он уже мертв.
— Ты не просил, но и не должен был, чтобы я мог решать за тебя, — бесстрастно отзывается Итачи, разглядывая чужие ладони и руки поверх собственных, безжизненных, синевато-серых, как прогоревший прах. В этих словах нет ничего, только простое замечание, справедливое, подобное констатации неизбежного факта. Он не вздрогнул от слов Саске, потому что был его старшим братом, а старший брат никогда не должен выражать сомнение и неуверенность в том, что делает или говорит. И Итачи не выражает.
Но Саске лукавит, он полон противоречий, которые бесконечной мукой и неизбывной мольбой бьются в кожу Итачи через прикосновение ладони. Немая, невысказанная просьба о чем-то, чего не понимает, должно быть, сам Саске, но вот-вот поймет Итачи. Или уже понял и решил, когда прервал Кабуто и обернулся к младшему брату, переполняя его своим вниманием и вынуждая реагировать сквозь страдания и истерзанную до дыр суть.
С Саске никогда не выходит просто, даже если со стороны может показаться именно так. Быть рядом и избегать одновременно это не всегда только манипуляция, но и необходимость тоже. Это история о том, что расстояние мучительно, но вне его можно потерять самого себя: контроль, убежденность и верный путь. Рядом с Саске Итачи не спотыкается, но начинает с тоской смотреть на те развилки, что ветвят прямую и четкую дорогу; на множество иных и хоть чуточку допустимых: «а что, если?». У Итачи не может быть «если», у него есть только «дано», сконструированное им самим из доступных деталей, потому что все это есть его выбор, а если думать иначе, если усматривать в его действиях чужое влияние, можно сломаться. Пусть сейчас, после смерти и за несколько минут до это уже не имеет никакого значения.
Но Саске вновь, даже сейчас, сбивает его с четкого и проторенного пути. Даже сейчас, когда у него нет пути, а только долгое падение во тьмы, которое он прекращает сознательно, ради бессмысленного разговора, выстроенного на попытках вынуть из Саске живую душу. Найти ее там, где ее, должно быть, уже нет.
— Это ничего тебе не даст, — не спрашивает, но констатирует Итачи, озвучивая очевидное, — что ты будешь делать дальше? — не потому, что интересно, но лишь чтобы облечь в плоть и обозначить то, что следом не будет ничего. Что все это лишь суррогат, что ясно им обоим. Только Саске еще, должно быть, может испытывать боль, а Итачи? А Итачи может эту чужую боль чувствовать, будто глаза снова ломит без наркотика. Должно быть и Саске мог бы ощутить его, почувствовать, но почему-то упорно пытался понять, но понять никогда не смог бы. Потому что для этого нужно было быть страшим братом.
Итачи попросту не оставил ему выбора и не должен был выражать неудовольствия или злости на то, что видел перед собой. Не имел права реагировать на надломленный темный взгляд, на больную, ненормальную надежду в глазах Саске, на его тоскливое ожидание чего-то, что невозможно облечь в слова. Но нет, он имел все правда на все. Потому что перед ним его младший брат. И таких братьев как они больше нет и не будет. Буквально.
Итачи в своей жизни жалеть не о чем, принятые решения не тянут его вниз к земле и не тянули прежде, Итачи избежал этого груза — весь и целиком он свалился на плечи Саске, за двоих. Потому что это он — доброе дитя. Не Итачи. Итачи не благороден, не добр и не страдает альтруизмом. Он не винит себя за мертвый взгляд брата, только методично пытается отыскать ошибку в своих действиях, потому что если только допустить мысль о собственной вине теперь, когда ничто уже нельзя исправить… он не почувствует ничего. Потому что Итачи — мертвец. Ему не больно и не горько, все нити в его руках обрезаны и висят обрывками в никуда, кроме одной, алой, вытканной из крови целого клана от сердца к сердцу и, падая в бездну, он тянет Саске за эту нить за собой. Потому что ее не разорвать и не обрезать, потому что никто из них не хочет и не может сделать этого. Даже смерть.
Но может ли быть так, что Итачи ошибся, умерев? Ошибся, посчитав себя свободным от Саске? Ошибся, не забрав Саске с собой, ведь единственное правильное место для младшего — подле старшего.
Саске прав, он его, Итачи, ошибка.
Ошибка фатальная, в той же самой степени, как и успех. Тот случай, когда попросту не разберешь, получил ли Итачи то, чего так хотел (ведь Саске жив, силен и имеет достаточную цель для того, чтобы длить свое существование) или же разрушил последнее, что вообще имело смысл в его жизни [цель Саске даже не настоящая, не его собственная, а только лишь взращенная на остатках последних воспоминаний о последнем имеющем значение человеке]. Вот только ошибка не такая, как о самом себе думает Саске, не та, что уничтожает сложившийся план и ломает выверенную стратегию, а ошибка сама в себе, ведь даже отсутствие войны, даже желание избежать ее — это было ради него, Саске. Чтобы он жил. Потому что если он уже был в жизни Итачи, уже был принят в расчет, то все иные варианты развития событий были только самообманом. Итачи уже не мог не учитывать его, уже не мог не поставить его превыше остального или, как минимум, равноценно. Не ради мира, но мир ради Саске. Саске — источник его несовершенства, который он хотел обратить в силу, желая [да, желая, как бы то ни было и в одном из вариантов] получить те-самые-глаза.
Которые сейчас достались младшему брату.
Но так и должно быть, ведь Итачи не знает, для кого и ради кого он желал этих глаз. То, что было изначально — несущественно, существенно лишь то, к чему все пришло. К его болезни, к смерти, к победе Саске, к войне.
— Ты видел все? — зачем-то спрашивает Итачи, ощупывая глазное яблоко сквозь бархатистый покров века. — Покажи. — пальцами Итачи приподнимает веки, оттягивает последнюю преграду с полным осознанием своего права касаться своих глаз и своего брата. Зрачков не видно в кромешной темноте взгляда, в непроницаемом для других, но переполненном для него чернильном пятне. — Покажи мне его.
Вечный мангеке как доказательство чего? Безграничной любви? Воплощенных стремлений? Того, чего желал для самого себя Итачи и что так отчаянно взращивал, если бы не собственное тело, подведшее его? Итачи нет нужды уточнять, о чем идет речь и что он имеет в виду. В его вопросе-требовании много смыслов, много слоев и много желания узнать, вынуть естество и рассмотреть его на свет. Много желания, чтобы Саске препарировал себя сам, разъял по кусочкам и показал Итачи плоды своих — его — трудов.
Поделиться507.04.21 20:01
Если человек чувствует себя живым, если вообще способен чувствовать что-то, что полагается чувствовать, только рядом с мёртвым, можно ли считать его живым по-настоящему? А если мёртвый душой и телом — это единственный, кто мог бы стать успокоением и являлся единственным, за что образами прошлого цеплялись память, сердце, душа, всё то хорошее и плохое, живое и задевавшее душу? Можно ли считать живым, не безнадежным, имеющим хоть какое-то будущее того, кто даже сейчас, с учетом всех условий, предыстории, обстоятельств и наполнения, стремится ко вниманию мертвого? Жаждет его признания? Хотя бы секунду, минуту, мгновение? Тот, кто знает, что этого не будет — "другого раза не будет, Саске" // другого раза не должно было быть с самого начала // ты не должен был увидеть, я бы сделал так — и не обманывается, но чья природа просто не способна ни хвататься, ни обманываться, ни смотреть на кого-то ещё? Как на Итачи. Как для Итачи. Как рядом с Итачи. Его даже мёртвое присутствие заставляет Саске чувствовать то, что он забыл, будучи неспособным; то, что, быть может, сохранилось бы в нём и выработалось хотя бы от части к кому-то ещё, если бы... если бы Итачи снова не лишил его этого когда-то одним своим появлением с жесткой, игнорирующей права и надежды младшего решительностью; у Саске и не могло быть права, не так ли? Жить без брата, следовать не за братом, стремиться к чему-то, не связанному с братом. Словно бы его душа, как и сердце, бесконечны, словно бы подобны фениксу и способны возрождаться из ничего, словно с ними не случалось, снова, ничего. Да, нет, как? Но это так не работало. Вот он, Учиха Саске, какого-то чёрта и зачем-то живой, с этими чёртовыми глазами — ты не понимаешь, Итачи, насколько ведёшь меня, ведь теперь ты и твоя боль всегда со мной, всегда во мне — смотрит на чёртового покойника, сломавшего ему жизнь, за что не простить, но с чем ничего не поделать. Ведь даже в этом причастности — участия? — больше... больше, чем... больше бесценного для мальчишки, чем... чёрт. Он правда живой? Учиха, обретая силу, вообще оставались людьми? В них вообще оставалось хоть что-то? Итачи, кажется, говорил, что чем ты сильнее, тем надменнее и самоувереннее становишься. Саске не стал. Он просто никого не учитывал с самого начала, избрав самого-самого даже в этих параметрах; и даже если бы сейчас на минуту, в теории предположить, что стал сильнее этого самого-самого — это не изменило бы его отношения, положения и ощущения от нахождения рядом. Саске просто, должно быть, сумасшедший. И ничто вне его сумасшествия уже, кажется, не пройдёт. Уже и не надо. Ничего. Пускай только почти холодная кожа брата, сам брат, и это мгновение. Невыносимая, неописуемая, непередаваемая боль, дарящая смуту и... успокоение; раз это последнее, что тлело внутри, последнее, что всё-таки имелось, значит, пациент не мёртв. Значит, колюще-режущее перо можно держать у глаз, в ладонях, внутри себя; без него исчезнет и это. А оно — не это, но Итачи — исчезнет; и перо.Что останется от Саске? Что увидит мир от угасания — взрыва — последнего из [упуская Обито с его прикрытием] полноценно выживших Учиха? Чем их накроет? Сколько боли не выраженного, не случившегося в них выльется, обрушившись черным пламенем и мистического существа со страшной пустотой в глазах? Плевать. Пускай только Итачи смотрит; хоть как-то; на него. Если Саске снова останется один, то ему будет плевать вовсе: брат смотреть не сможет, а потому он выразит всё, не отвечая ни за себя, ни за последствия. В нём не осталось смысла. Ничего, ни для кого. А _ему всего это по-прежнему не нужно, как и всегда.
— Всё, что могло бы дать мне хоть что-то... оно осталось в прошлом. Лежит в земле. Не вернуть, — и Итачи перед ним — это издевательство, пытка, это вставленный во всё, что еще могло вздрагивать, нож, что прошел в миллиметрах от сердца, теперь прокручиваясь туда-сюда с безжалостным остервенением, медленно убивая что-то большее, чем тело. Но даже так — Саске не отказывался от этого; даже так — это большее, до безумия желанное, вызывающее тихое и не общее, но желающее исчезнуть, предварительно погромив всё. За то, что отобрали. Без них всех могло бы сложиться немного иначе; чуть-чуть. Даже если бы значило в итоге, что Саске продолжал бы оставаться никем в чужой тени и собственном клане, или даже если бы кончил бытием в брате, как тот сейчас остался в нём. Не важно. — Я отомщу за это. А дальше мне не важно, — пускай даже убьют в процессе, какая разница? Это не будет бездействием, это будет Учиховской честью, это будет достойная смерть ни то шиноби, ни то такого, как Саске, так и не получившего шанс на жизнь, человека. Он даже не обращал внимание на то, насколько сильно сжимались руки, насколько они отдавались внутренним тремором, пока лицо и голос оставались исключительно спокойными и полными смиренной, вынужденной, бесповоротной — траурной — решимостью. Саске вырос, Саске стал сильнее, Саске успел зачахнуть внутри и стать... чем-то, стирающим в ничто, однако присутствие старшего брата — само по себе — напоминало о том, что он младший, словно бы внося и в это лицо, и в этот голос отголоски детства, юности, жизни, любви, желания походить, тянуться, стремиться, угнаться, даже детской обиды и зависти, а в конечном итоге — мечты получить признание. Саске так и не стал Саске, оставшись лишь младшим братом, не так ли? Он, по сути, едва ли когда-то представлял, что сможет сравняться или тем более обогнать; что будет, когда сделает это. Словно бы после такой планки это возможно провернуть, оставшись собой, не сойдя с ума; став таким, чтобы как-то жить. Плевать.
Лёгкий кивок.
Да, видел всё. И это сделало только хуже, лишив иных путей весь этот чёртов мир. Точка, поставленная ещё тогда, сколько бы Саске не искал ответов и не пытался убедиться в правде. В конечном итоге, она бы не исправила уже совершенного, а значит, не исправила ничего бы и для Учиха.
Хорошо.
Не важно, насколько больно и сколько мыслей вызывало. Оно не имело значения. Итачи имел право увидеть, а Саске даже если имел право, просто не способен отказать; не желал отказывать.
Тёмные глаза неотрывно смотрят на старшего брата.
"Ради этого было всё?" — интересный механизм с одной стороны выживания и поощрения потомства, а с другой стороны самоуничтожения, заложенный в Учиха. Стремление к силе, к наличию братьев и сестер, планок, устремлений, потенциала, но с другой... До того момента, пока ты дойдешь до таких глаз — останешься ли ты живым хоть сколько-то? Станешь ли чем-то, кроме машины для убийств, возомнившей о себе или опустевшей настолько, что даже в этом окажешься — вдруг — непригоден? Всё ради этого? Ради глаз? Только лишь и всего? А дальше? Многое бы они изменили? То, что взращено ненавистью и болью, не зная ничего более, не способно породить ничего хорошего; оно дожрёт и сведет с ума, дав силу, но забрав душу; остатки.
Два чёрных омута перетекают в горящие три томоэ, что в свою очередь перетекают в вечность. Саске использовал это во время боя, Итачи конечно же видел, как и когда нагнал старшего брата, но то ведь другое. Тогда он куда-то [как всегда] торопился, снова отталкивая и не учитывая вовсе, а теперь... что же, если есть какая-то скорая, сокращенная вечность, где весь внешний мир не имел значения, состоя лишь из них двоих с чертовой пропастью учиховского наследия между, то сейчас она у них была. Пускай смотрит. Пускай видит палящую ненависть и боль, утрату и голодную жажду, что исходит к зияющей пожранной пустоте, что стояла за этими глазами. Так ощущалась и пахла сила.
Руки сами потянулись выше, чтобы перехватить за ткань ворота и чуть потянуть на себя: по-прежнему младший, по-прежнему не такой высокий, потому пускай старший смотрит так долго и так близко, как только пожелает. Саске понятия не имел, что для того имело значение сейчас или прежде, имело ли хоть что-то или кто-то хоть когда-то, но раз уж подняли из земли, бесстыдно и цинично вынудив снова дышать воздухом и смотреть глазами, которых нет, пускай запомнит это, прежде чем снова оставить, прежде чем оказаться там, где ничто не имело значения. У младшего не паника, но крах жизни. Всего, что от неё осталось. Старший мёртв. Красной тряпкой здесь и сейчас.
Зачем вообще существовали шиноби, раз природа дала им силу так издеваться над ней самой, над всеми её законами, над... душами? Слишком жестоко. Для живых, мёртвых и тех, кто где-то между. Ками-сама, как жестоко; и как бессмысленно. До жжения в глазах, сердце и руках. Поубивать их всех.
— Это стоило того, Итачи?
Сейчас недостоин тоже?[nick]Uchiha Sasuke[/nick][icon]https://i.imgur.com/7SL0tWP.png[/icon][lz]<center><a href="http://versus.rolka.su/"><b>Учиха Саске</b></a></center>эта кровь не стала козлом отпущения; эта тьма не была хаотичной.</a>[/lz]
Поделиться607.04.21 20:01
Что Итачи следует делать сейчас? Как ему следует поступить теперь, когда он больше не шиноби, больше не нукенин, больше не [живой] брат и даже в чем-то больше не Учиха [разве Учиха без своих глаз, без ненависти и без боли это истинный Учиха?]. Технически это, разумеется, не так, но разве смерть не освободила его ото всех этих условностей и, одновременно, не лишила ли тех рамок, за которые он цеплялся и с которыми отождествлял себя, чтобы собственная безграничная тьма не затопила его удушливой непроглядной волной; чтобы не осознать бессмысленность собственного существования и собственных действий, призванных лишь только оставлять его, как Учиха, в живых как можно дольше, чтобы он оставил после себя следующих. Но этого Итачи не знает и не узнает, однако смутно чувствует, что смерть освободила его от многого и каждая секунда нынешней не_жизни с вязким ощущением взгляда Саске на себе проясняет его прежде затуманенный разум все сильнее, четко высвечивая каждый шаг. Собственные прежние попытки усидеть на двух стульях одновременно кажутся Итачи мелочной глупостью, как и вплетшееся в ткань войны желание Мадары, в котором он узнает собственную идиотскую попытку навесить на свои глаза шоры, заместить то единственное и значимое в их жизни суррогатом смысла.
Прежде он позволял тьме сочиться по капле, отравлять его естество медленно и постепенно, но теперь она будто бы сорвалась с цепи. И что же ему делать сейчас, когда нет ничего из этого, когда больше ничто не держит и не сковывает его? И должен ли он делать что-то, когда ничто больше не существенно? Все, что прежде имело для него значение — Саске и Коноха — все это обесценилось, лишилось смысла даже если еще секунду назад он пребывал в счастливой иллюзии их важности. Да и как могло быть иначе, если итогом его действий было то, чего он желал избежать. И так ли сильно он желал этого? Мир нужен был, чтобы жил Саске, Саске нужен был, чтобы всегда следовать за Итачи, чтобы всегда преследовать его, чтобы думать о нем, потому что Итачи желал этого, потому что это было единственное, что было необходимо. А вот причина этого желания была совершенно не важна. Саске должен был обрести силу ради Итачи, чтобы сделать Итачи сильнее или убить его, но что дальше? Для чего ему длить свою жизнь после? Разве имеет смысл Саске быть теперь, когда нет Итачи? Даже если старший всегда с ним, буквально, всегда в нем и всегда часть Саске много глубже и полнее, чем просто память или в печатавшийся в душу образ, то что от этого самому мертвецу?
Ладонь Итачи не встречает никакого сопротивления, когда он кладет ее на затылок младшего брата, который и сам тянет его ближе, вторя его желанию. Итачи хочет смотреть, а Саске хочет, чтобы на него смотрели. И вообще-то Итачи дает ему все, что может дать, позволяет ощутить себя в центре внимания Итачи, узнать каково это, быть им и быть с ним, каково это, падать в темноту вместе, просто потому что у них не было иной судьбы. У них не могло быть иного финала и все то, что тот наивный и зашоренный живой Итачи мыслил возможным, уже не кажется осмысленным этому Итачи, шагнувшему за грань.
Итачи желал мангеке, Итачи жаждал увидеть вечный мангеке и теперь он видит его, касается его кончиками пальцев, наверняка доставляя Саске боль и вместе с тем ощущая, как собственное прикосновение отдается фантомной резью в мертвой радужке, будто сквозь нее пропускают разряды тока, а еще тонкой струйкой сыплют мелкий песок прямо под самое веко. Итачи непроизвольно смаргивает это ощущение, склоняется ниже, упирается лбом в лоб своего младшего брата и смотрит в свои глаза, и видит в них не свой мангеке, но чужой, изящный и хрупкий как цветок. Мангеке так подходящий Саске, цветок, который Итачи желает сорвать и присвоить себе, потому что это его вечный мангеке, в его глазах, его исполненная мечта и его брат. Но мангеке не бывает без боли и Саске ее недостаточно, просто потому что ее никогда не бывает достаточно для другого, когда так отчаянно хочешь, чтобы он ощутил хотя бы отголосок твоей.
— Это было моим, Саске. Тебе оно досталось по ошибке. — с жестокой лаской произносит Итачи в самом деле думая так, как и говорит. Язык влажный, как и склера, кажущаяся на вкус чуть-чуть соленой от запечатанных в ней страданий и отдающая железом как кровь, которая заменяла этим глазам слезы. Но боли до сих пор нет и это неправильно, неверно, недопустимо, словно Итачи хотят подсунуть суррогат, словно бы это не то, ради чего Учиха отдают свои жизни.
Чтобы добраться до глазного яблока зубами, его приходится почти достать из глазницы, далеко оттягивая веки и подцепляя изломанными ногтями мертвеца, с которых струпьями осыпается темно-фиолетовый лак. Зубы пару раз щелкают впустую, прежде чем Итачи удается ухватить теплую и скользкую сферу губами, втягивая ее в рот и мягко катая на языке в минутном желании проглотить целиком, утягивая следом и тянущиеся за ней синеватые комки нервов и вен. Держать глаз Учиха почти то же самое, что держать его сердце и Итачи упивается этим моментом, прежде чем тонкая оболочка рвется от давления и жгучее пламя разливается по его горлу, заполняя рот вязкой и теплой силой, за которую они оба умерли ни один раз.
Должно быть это, наконец, достаточно больно, потому что Итачи ощущает, как его правую глазницу дергает будто бы от нервного тика и сотни маленьких ледяных иголочек пронзают его череп изнутри слабым отголоском того, что может быть ощущает Саске. Итачи улыбается чужой удовлетворенной улыбкой и ласково гладит брата по взмокшему затылку, будто бы хваля его за верно решенную задачу или попавший в цель кунай.
— Остался еще один, Саске, — почти шепчет он, как делящийся секретом заговорщик, — мы ведь не можем позволить, чтобы наши глаза достались кому-то еще, кроме нас, правда? — именно таким голосом Итачи уговаривал маленького брата есть овощи, именно таким голосом он извинялся, говоря, что проведет с ним время в следующий раз, и именно таким голосом он сообщает, что Саске скоро умрет. — Не волнуйся, мой глупый маленький брат, я ведь говорил тебе, что другого раза не будет. И его не будет. Ни для тебя, ни для меня.
У них было, есть и будет только одно будущее, вместе. У Саске в мыслях может быть только Итачи и даже месть во имя Итачи это лишь глупый суррогат, который он не мог оставить своему наивному брату. Потому что не было Итачи и не было Саске. Были лишь старший и младший. Навсегда.
Поделиться707.04.21 20:05
Никто не имел права причинять Саске боль, кроме Итачи. Никто более и не способен причинить её Саске, кроме Итачи. Никто и ничто в мире не способно ни сломать, ни принести ему страдания. Потому что та боль, которую его вынудил-заставил-обрек-решил почувствовать Итачи, всегда будет сильнее любой другой, самой невыносимой, самой дикой, самой ощутимой. Потому что это история о [падшем] боге. Потому что они особенные братья. Потому что старший и младший. Потому что Учиха. Учиха не принимают никого, кроме Учиха, и ничья боль больше, ничьими руками больше не принималась младшим братом. Дозволения ни для кого, кроме Него. Даже после смерти. Навсегда.
У них было мало времени. Всегда недостаточно: до той ночи, после неё, во время встреч, битва, а после смерти его не стало совсем. Между тем Итачи каждый раз пытался что-то показать. Показать то, на что способен, на что мог бы быть способен Саске. Показать и получить в ответ на это эмоции и реакцию, что более выдать ему не способен был никто; не те глаза, не та любовь, не та ненависть, не то понимание действительной силы и красоты-сложности показанного Итачи, потому что истинную суть Учиха способен оценить лишь Учиха. Оценить и продолжить ломать себя дальше, чтобы догнать. Чтобы рано или поздно тоже показать. Как тогда: "Ты хотел, чтобы я пришёл к тебе с такими же глазами, но я пришёл к тебе без них. Однако смотри, на что я способен своими, смотри, мне тоже есть, что показать. Тебе и только тебе. Для тебя. Всё это — включая отступление от твоей задумки — это для и во имя тебя одного, брат. Разочаровывайся или гордись, получай своё насыщение, а я нарочно не удовлетворю его полностью, оставив частичку себя для себя же. А ты покажи мне всё, что сможешь. Мне и только мне".
У них было мало времени. Сейчас его не осталось вообще. Его вообще не должно было быть, прямо как этого чёртового воскрешения, что доломало что-то внутри Саске. Но раз так выпало, раз у них в общепринятом традиционном времяисчислении — минуты, то младшему брату найдется, что показать. Теперь старшему. Мёртвому, правда, но раз и подняли из могилы, раз оторвали от вечности, то могло ли быть для него что-то более успокаивающим, хоть сколько-то ценным и желанным, чем лицезрение того, с кем и на кого времени вечно не хватало? Саске способен подарить им не вечность, ведь даже её окажется мало, даже она теперь, уже, бессмысленная, но те необходимые крупицы, чтобы сделать вдох; но не выдох [не сможет отказать себе и заберёт с собой]. Пускай выдохом станет сама вечность. В этот раз Саске покажет. Покажет столько, чтобы стать достойным; чтобы Итачи не повторил собственную ошибку, чтобы всё встало туда, куда и следовало. Ведь если не ради этого его воскресила судьба, если не ради этого развязалась целая чертова мировая война шиноби, то ради чего тогда? Ками-сама, не знак ли это, не тот ли самый шанс? Получить единственно желаемое им с семи лет, но оттягиваемое всеми; начатое его личным богом, кому проигрывали все прочие, настоящие боги.
Саске не распоряжался временем также умело, как Итачи, ведь каждый мангеке особенный, не так ли? Однако у него имелись глаза брата, потому и их особенность в той или иной форме передалась младшему тоже. Им сейчас не важно время, не важно происходившее кругом. Ками-сама, был ли важен для Саске хоть кто-то вне брата? А для Итачи? Наверное. Не важно. Плевать. Он снова позволил делать что угодно. В их, исключительно учиховской реальности, исключительно учиховским мерилом, понятной исключительно Учиха бесценностью, трудами и языком. Ни для кого больше. Их голова, их глаза, их страстная, а оттого всегда сгорающая душа — это только для Учиха, это их вселенная, их реальность и их мир, в котором они вольны по-настоящему делать всё, что угодно. Ведь если усталость и боль, если эмоции и переживания испытываются по факту, разве можно назвать их ненастоящими? Меняется реальность, плоскость восприятия глаз, но не сам факт. Боль — это боль. Страх — это страх. Ненависть — это ненависть. Истощение — это истощение. Понимаете?
"Заверши то, что начал".
Ведь всё это было из-за глаз, ради них. Так ли иначе, как ни крути.
Пускай Итачи делает всё, что хотел, но что не смог или не сумел прежде. Так или иначе, по тем или иным причинам. Пускай не отказывает себе, почувствует на ощупь и вкус, на ощущение и на зрительное восприятие то, чего непременно так желал. Их площадка — это их собственные демоны, которым нет смысла сдерживаться. А Итачи, как монстр и бог, мог выпустить их всех: никто и не когда не способен был этого выдержать; кроме Саске. Ничто не изменилось и сейчас. Это о многом больше, чем просто и силе. Для младшего сила — это путь и признание старшего, и раз теперь их силы сошлись в том, чтобы ненадолго зацепиться в собственной реальности, раз они способны смотреть сразу через все слои реальности, каждую из них ощущая одновременно и по-настоящему, пускай эта станет их бытием сейчас.
Итачи в самом деле был сумасшедшим. Они оба. Это ненормально даже для Учиха, но какая терпеть разница, когда они все уже мертвы, а никого из живых не осталось? Плевать на Обито, он и сам не имел никакого будущего, будучи очищенным, опустошенным и поглощенным. Настоящие Учиха — эти двое, и теперь лишь они решали курс, пределы, границы и понятие о не-норме. Сумасшедшие, ненормальные, отчего-то вообще родившиеся. В одной семье, в одно время, в одно и тоже отсутствовавшее будущее, привязанные друг другу больше, чем какими-то там перерождениями, но учиховскими проклятием и кровью, что крепче и проникновеннее любой другой формы связи. Братские узы, кровные цепи Учиха... Чёрт возьми, что он пытался сделать с глазом? Второй невольно жмурился, испарина, потому что... Итачи в самом деле сумасшедший. Со своими языком и тягой, со всей этой... что... что? Но сумасшедшие они оба, ведь Саске не делал ничего для того, чтобы это хоть как-то предотвратить. Послушный младший брат. Если не Итачи, то кто? Это право имелось лишь у него. Распоряжаться. Причинять. Закончить. Младший брат разрешил старшему позаботиться, не отнимая у него этого права. Естественного и очевидного.
Чёртовы пальцы в глазницах — это больно. Саске знал это ощущение, потому что Итачи делал так прежде; тогда, во время их последней встречи; в день, ради которого он жил и в который планировал умереть вместе с братом [потому что не могло быть иначе, иначе неправильно, иначе — лишь не лишенный живой оболочки мертвец, бесцельный и состоящий лишь из боли]. Это невыносимо больно. Очень больно. Когда давление, когда пульсация, когда чужое проникновение там, где его не должно было быть в принципе. Боль от касания, боль от выдавливания, боль отрывания, больбольбольболь. А потом разрыв, искры в глазах, помутнение, что-то совершенно непередаваемое, неописуемое, невменяемое; жестоко и нежно одновременно. Развернувшаяся перед оставшимся глазом картина такая неестественная, но с другой стороны максимально совпадающая с тем образом, когда Итачи в безумстве кричал о том, что: "Ты станешь моим светом, Саске". Станет, разумеется. Прямо сейчас, на этот раз — точно. Брату не нужно сдерживать свои темные мысли, а причиняемую боль Саске не просто не отрицал, но принимал и словно бы просил больше: только мне, только для меня, всё что можешь — дай; ты чувствуешь что-то, тебе легче? Это того стоило? Совершенно не зная, кричал ли или делал что-то ещё за границами терпения и смирения, потому что всё встало лишь болью и чертовой красной жижей, что стекала вовсе не кровавыми слезами Аматэрасу.
Когда все потемнело Саске не запомнил: к тому моменту всё бытие стало лишь безумием и болью, чужим присутствием, нежным-нежным безапелляционным шепотом, тремором и стертым горлом. Без понятия, как именно проявлял терпение, почему не вырывался, опять же, кричал ли — это невозможно осознавать в такой момент. Даже не потому, что Итачи — мертвец; они в этом на равных. Но... боль и пустота. Пожалуйста, пускай это закончится...
... ещё через пару мгновений. Ведь у них своя вселенная.. Из слоев и хитросплетений, понятных лишь Учиха; самым живучим, опустошенным, сильным, а потому лучшим из Учиха. Образцовым Учиха. Исключительным братьям. Проклятье наяву.
Трудно было понять, оказался ли он за земле, или во что-то вжат, или Итачи просто держал его окровавленными руками, ведь Саске оказался погружен в полную тьму, заполненную болью и постепенно вытекающей из него вместе с кровью жизнью. Лицо — каша, Итачи — каша, всё это — лишь месиво; это приятно? Ты доволен, брат, тебе нравится? Немного откинул голову назад и, в треморе от боли и очевидных пагубных процессов да реакций что тела, что психики, кивнул в сторону, сложил пальцы в том самом жесте, что развернулись в сторону кивка. Как ты мне показал. Как ты делал. Ну же, посмотри. "Что ты видишь этими глазами?"
— Похоже, это в самом деле было важно для тебя, — на Итачи смотрит цветущая ненависть, пока руки собраны за спиной. Саске стоял чуть в стороне, после опустив взгляд на себя, распавшегося на мелких змей, что из белого рассыпались в серый пепел, пока расползались. — Было ли что-то ещё? — голос спокойный, смиренный, но переполнен так, что содержимое выливалось. Боль, любовь, ненависть, осуждение — других, тех всех, интерес, ненасытность, усталость, обреченность, безумие; ещё куча иного, что только могло остаться в пепле. Только для Итачи, только для мертвеца.
— Этими глазами я вижу всё. Кроме твоей смерти, ведь ты уже мёртв, — сглотнул, ненадолго прикрыв глаза. Цветок в них погас, когда Саске открыл их вновь. Осталась лишь бездонная дыра, космос, беспросветность. Глаза Учиха сами по себе особенные, выразительные. Особенно у Итачи. Исключительно — у Саске. Они и без шарингана могли быть ни то оружием, ни то книгой. — Но и я тогда умер вместе с тобой, Итачи, — шагнул в сторону брата, поведя плечом и наконец оторвавшись взглядом то ли от места, где только что валялся, то ли просто от земли, будучи в своих мыслях и здесь одновременно; иные слои реальности не имели значения в этот момент. Пока у Саске оставалась чакра, пока у них имелось время. Пока было, что сказать, и от чего не устать, но чем обозлиться — необходимость конечности, конечность, одинаковый финал. Единственно доступный в их вселенной. По-прежнему не выразившей всё. — И хотя бы поэтому я хотел сказать тебе так многое, но... если честно, оно теперь не имеет никакого значения. Когда ты рядом, мне... достаточно просто этого, — потому что всё прошлое, все мечты, цели и ужасы — всё это было в Итачи. В мыслях об Итачи, в нём самом. В этом — в брате — был и сам Саске. Они особенные. Друг без друга им не быть.[nick]Uchiha Sasuke[/nick][icon]https://i.imgur.com/7SL0tWP.png[/icon][lz]<center><a href="http://versus.rolka.su/"><b>Учиха Саске</b></a></center>эта кровь не стала козлом отпущения; эта тьма не была хаотичной.</a>[/lz]
Поделиться807.04.21 20:05
Рваться к вершинам, становиться лучше, больше, сильнее, значительнее — оказывается бессмысленным и пустым желанием, когда ты уже мертв. К чему прикладывать столько стараний, если нет того, кто увидит и разделит этот путь. Итачи убил всех Учиха [всех, имеющих для него значение], но оставил одного, того единственного существование которого делало осмысленным и нужным этот путь к вершине. У всякого величия должен быть зритель, у всякого совершенства должно быть противопоставление и должен был тот, кто гонится вослед, чтобы путь наверх не наскучивал, не переставал быть чем-то желанным и не превращался в пустой мираж. И наоборот: собственное величие нужно чтобы впечатлить, чтобы раскрыть весь потенциал, увидеть его во всей красе, не загнивающим, не уснувшим навеки под гнетом ограничений и людского страха.
Коноха боялась их и Итачи так долго и так упорно не понимал причины, так настойчиво силился найти объяснение этому нелепому положению вещей, что сломал сам себя, вписываясь в те скудные представления о своем мире, которые считал верными. Сила вызывает страх и Учиха почти забыли о своей силе, за несколько поколений потушив самих себя до уровня рядовых, ничем не примечательных шиноби, пусть даже и в таком своем положении превосходящих многих. Им не хватало ненависти и мир словно бы почувствовал их потребность, давая им повод, выстраивая его руками тех, с кем Учиха хотели ужиться. Жалкий клан, слабый клан — Итачи не брал назад своих слов, но лишь сейчас понял их истинное значение. Этот добровольный отказ от силы, что была самой сутью Учиха, был жалок. Он был ненавистен тому, от кого с детства требовали большего, кого желали видеть настоящим Учиха взамен всех тех копий и суррогатов, которыми была переполнена их семья. Понимал ли Фугаку то, что понял Итачи? Понимал ли это Шисуи? Привели ли они его к тому, что он сделал, осознанно или он воспользовался случаем, чтобы оправдать себя? Как бы то ни было, остались только они с Саске. Настоящие Учиха, рожденные чтобы гнаться за силой, и друг за другом и рано или поздно догнать. Но только однажды.
Слишком рано. Если бы у Итачи только было чуть больше времени.
Истина разворачивается проснувшимся навстречу солнцу цветком. Всегда стоящая где-то по правую руку, теперь она обнимает их крепко, как шинигами, раскрывая их ослепшие глаза. Итачи улыбается окровавленными губами по-настоящему, не так светло и счастливо, как в прошлый раз, но торжествующе, как того и требует откровение. Он желал поставить окончательную точку, но Саске дал им больше времени и на этот раз младший прав, он готов это признать. Итачи позволяет ему дать им время: прежде чем умирать переполненным сожалениями о том, что не было закончено и не свершится никогда, стоит утолить эту жажду. Утолить в полной мере и столько раз, на сколько хватит силы и чакры. Ведь они — Учиха. Настоящие. Совершенные. И им подвластно все, чтобы получить желаемое.
— Очень хорошо, Саске, — ровно и спокойно признает Итачи, переводя взгляд в указанную сторону, пока младший осыпается в руках пережженным пеплом, и сглатывает, позволяя все ошметкам и кускам плоти раствориться в его мертвом теле, стать его временной частью.
Вкус на языке — настоящий. Итачи знает вкус собственной крови и знает вкус крови брата, пропитанной горем и отчаянием, сменившим ее детскую сладость. Ощущения — настоящие, но на деле это лишь затравка перед тем, что будет в финале, перед самым приятным из того, что они могут сделать. Это ведь тоже сродни бою: кто продержится дольше, кто выдохнется скорее и чья тьма глубже: того ли, кто жаждет взять все или того, кто готов все отдавать?
— Я хочу, чтобы ты узнал боль и темноту. — старший разворачивается в сторону младшего и делает шаг одновременно с тем, как и Саске шагает ему навстречу. Расстояние слишком велико, невыносимо для тех, кто желает забраться друг-другу под кожу, растечься по венам и распасться в пыль, которую ветер перемешает в одно целое. Быть может это странно для Саске, но привычно для Итачи — желать быть ближе. - Окончательную, — шаг вперед, — бесповоротную, — еще один, пока между ними вновь не остается лишнего воздуха, — мою.
Все мое — твое. Иному и не должно быть места.
Итачи не удивлен словам Саске, он знал это и без того: ни один из них не будет жив без другого и ни один не будет мертв без другого, обрекая себя на порочный круг из бесцельности и пустоты. Стоит ли разбирать, где здесь любовь, а где — ненависть? Продиктовано ли то, что делает Итачи ревностью или завистью мертвого к живому, или отчаянием человека, заполучившего желаемое, но знающего, что уже слишком поздно. Итачи никогда не узнать своей истинной силы и никогда не узнать, как она раскрылась бы в бою с Саске. Таким. Получившим все, что только может получить Учиха, то, чего для себя хотел Итачи, но вместо этого платил за силу годами наступающей темноты и медленного угасания. Итачи не наивен и понимает, что сколько бы правды не открылось Саске, сколь много бы он не узнал об Итачи, ничто из этого не будет важно, пока старший этого не желает. Саске — его зеркало, тот, кто будет отражать все, что будет показано и так, как было показано. Так, как нужно Итачи. И нужно самому Саске, даже если он еще не знает об этом. Старший ведь нужен для того, чтобы позаботиться о младшем, дать ему лучшее и взять то, что причитается себе взамен. Причины действия, какими бы они ни были, не отменяют факта, не отменяют смертей и не отменяют ненависти между ними, пусть ненависть и сдобрена любовью большей, чем бывает на этом свете. Для них просто недостаточно одного чувства, недостаточно слов, чтобы описать то, что есть и будет между ними, а посторонним даже не нужно пытаться вмешиваться или понимать. Даже если эти посторонние — Учиха.
— Одного раза недостаточно, Саске...
...недостаточно, чтобы ты ощутил то, что ощущаю я.
Чтобы финал был полон смыслом и кровью, чтобы последние Учиха умерли так ярко, как только могут умереть лучшие Учиха. Итачи кладет ладони на бледное лицо брата, обводит большими пальцами выступающие скулы и в который раз, вблизи, всматривается в черты его лица. Холодность и острота, сменившие детскую наивную округлость — не для него. Для него Саске так же мягок и податлив, как глина, его глаза так же широко распахнуты навстречу, даже если он знает, что последует дальше.
Снова и снова, покуда пальцы в который раз выдавливают, вырывают и давят влажно блестящую радужку. Итачи не говорит ничего, слова и не нужны. За него говорят действия, окупающие все те "не сегодня", все те долгие часы ожидания, которые маленький Саске провел у порога, все годы ненависти и все, что было ради этого момента.
Даже в окровавленных пустых глазницах младшего брата Итачи раз за разом видит свое отражение. Его руки не дрогнули ни единожды, соль осела на языке и щеках мимолетной пылью, жесткие и грубые прикосновения лаской расцветили бледную кожу шеи и плеч, сохраняя каждый отпечаток от каждого прикосновения. Итачи не вмешивается в гендзюцу Саске, но его воля так или иначе влияет на картинку. А может быть Саске и сам не желает, чтобы следы его присутствия исчезали так же быстро, как развеивается очередная иллюзия.
Жесткие пальцы впиваются в чужой подбородок, без нужды фиксируют голову в таком положении, чтобы младший не отвернулся, не смог уклониться и вырваться, даже если вдруг пожелает. Итачи смотрит долго, пронзительно — последний не уничтоженный глаз от прошлой иллюзии влажной драгоценностью поблескивает между его губ, бессмысленно и слепо застыв цветком невыразимого страдания, что медленно оживает, переплавляясь в убийственные грани его собственного мангеке, пока оба рисунка не сливаются в один общий в одной радужке. Палец надавливает на губы, раскрывает их с усилием, как и белоснежный ряд зубов ровно настолько, чтобы они не повредили нежную и тонкую склеру.
— Этот — последний, — теперь уже окончательно произносит старший и подается вперед, вталкивая глазное яблоко в рот младшего брата, глубоко, к самому горлу. Итачи вскидывает взгляд на Саске, мангеке в мангеке, впервые так близко, впервые один на один. В первый и последний раз. Кровавые слезы аматерасу синхронно сбегают по их щекам и сочатся из последнего, не проглоченного глаза, переполняя их глотки кровью, которая вот-вот станет огнем. Итачи прижимает глаз к чужому небу, давит языком до разрывающей боли в их собственных глазах, и без того истощенных от разделенных напополам страданий Саске с каждым разом, с каждым уничтоженным взглядом. От нее тянет блевать кровью и десятками проглоченных мангеке, но Итачи не позволит всему этому пропасть так глупо. Он давит, пока боль не становится невыносимой, а влажная плоть не выскальзывает, проваливаясь в горло Саске как в бездонный колодец.
Вот и все.
Итачи отстраняется, прижимаясь лбом ко лбу младшего брата и улыбается удовлетворенно, а потому жутко, как только может улыбаться мертвец, переполненный мигом жизни.
Еще секунда и пламя аматерасу разгорится, поглощая их тела, уничтожая всякую память об их присутствии, об Учиха.
Секунда в реальном мире, а сколько в этом?
Поделиться907.04.21 20:06
А может быть Саске вполне мог бы жить без Итачи? Ради чего-то другого? Кого-то другого? В жизни без высот, вечной погоней за недосягаемой планкой, в чем-то совершенно простом и примитивном, но хотя да дающем достаточную имитацию, чтобы продолжать жить? Если бы был сильнее или если бы слушал тех, кто желал дать ему что-то отличное боли, то не был бы сейчас так силен, не стал бы зачинщиком войны и преступником, возможно возродил бы какое-то из подразделений полиции Конохи, взяв главенство над перспективными юными шиноби, а может бы так и возился в Командой Номер Семь, где ни бы конкурировали между собой, принося пользу обществу, тратя на это годы жизни и не слишком заботясь об Акацки... может быть, когда Пейн пришел бы разрушить Коноху, Наруто с Саске смогли бы провернуть все с меньшими потерями, а Сакура бы продвинулась как медик, и можно было бы наблюдать за ее конкуренцией с Ино, пока Саске делал бы вид, что оно для него хоть сколько-то важно, подкармливая между тем кошек, собак, змей и птиц как единственно понятную и не раздражавшую компанию... Может быть он бы уже стал джонином, а если даже нет, так и застряв в развитии из-за своей команды, что надо было тянуть, знал бы, что за такую цену получает признание, способный выражать заботу и не бегать за призраком. И даже если бы этого Саске не хватало, даже если бы не не_как_то_прошлое, даже если не с теми и не для тех, даже если бы оно не излечило его раны, не открыло бы правды, привязало бы к системе, что и сделала его несчастным, он хотя бы не стоят так. Юный мститель, отступник и живая оболочка, наполненная лишь болью и отчаянной ненавистью, который позволяет раз за разом вырывать, вытаскивать, выкручивать, откусывать свои глаза. Тому, кто не способен дать ему ничего, кроме этой боли; тому, кто не способен и не хочет дать ничего больше; тому, кто уже мёртв, но собран из пыли, грязи, собственных останков и души, самой прежде сделавшей всё, чтобы уйти. Может быть младший вполне мог бы жить без старшего. Без причиняемой им боли. Без этого больного желания и готовности. Без...
Вы ведь обращали внимание на то, насколько особенный, красивый шаринган у Саске? Не просто рисунок, не просто индивидуальный узор, но цветок, что вырос и раскрылся из боли и тяготы, словно бы всю жизнь дозревал, как бы подчеркивая, что у мальчишки изначально ничего иного не заложено; не предусмотрено, не должно было быть, отторгалось бы душой и телом, ведь этот цветок - привередливый гурман, предпочитавший лишь самые труднодоступные деликатесы. Блюдо, приправить и взрастить которое оказался способен лишь один повар, вытеснивший всех ассистентов, диетологов, помощников и изобретателей. Повар, кончивший тем, что решил в итоге готовить лишь одно единственной блюдо; свой шедевр, понятный лишь ему как исключительному, неповторимому, поцелованному богами гурману. Ты должен стать деликатесом, я выращу и себя деликатес. Только ты будешь знать. Только я смогу попробовать. Больше нравится быть садовников? Хорошо. Я выращу самую красивую розу, но не дам никому увидеть её, сорвав и истоптав потому, что мир её не заслуживает. Она только моя. Только. Моя. Для меня. Только я увижу и оценю её. Пускай душит все цветы и колит каждого, кто попытается дотронуться или увидеть её; выкалывает глаз аи отравляет шипами, ведь вода, что подливал в почву, была ядом, впитавшись в ствол и став их частью.
В очередной раз понимая, как тяжело дышать, как непросто проглотить свой собственный - их, вообще-то - глаз, как пульсирует оборванная вена в глазнице, а после и вторая, как вся влага становится кровью, как трясутся руки и все тело от того, сколько болиболиболиничегокромеболи оно перенесло, Саске задавался вопросом: в самом ли деле он мог бы жить без этого? Вернее, не мог, но хотел бы? Были ли ему нужно что-то ещё? Жить.
Я так устал.
Это было последнее цукиеми. У младшего Учиха больше не хватит чакры на это, лишь на то, чтобы поддерживать свой шаринган и несколько техник попроще; ни на что больше его не хватит. Игра в иллюзии окончена. Ещё один раунд, снова. На этот раз последний. Правда последний. Другого раза не будет, если Итачи не воспользуется теми щедрыми благами бесконечной силы и повторения одного и того же, того бессмертия, что дало ему нежеланное, неправильное, аморальное, противоестественное воскрешение; мечту Саске, что конечно же оказалась лишь издевкой - Учиха непозволительно мечтать, им стоит лишь ставить цели, достигать их и так по кругу, пока они не иссякнут или не напорются на ту, что окажется не по зубам. Мечты - нет, нельзя, никак. Все мгновения реальности теперь в руках старшего брата, как и прежде. Если они нужны. Если ему не надоело, не осточертело, не насытило причинение боли. Всё, что желал сказать? Единственное, что желал сделать? Слова о глазах перед смертью, глаза после смерти - всё.
Насколько иначе могла бы сложиться жизнь Саске. Даже развей эту чертову Эдо Тенсей: они найдут способ победит оставшихся врагов, объединяться, потом Учиха либо убьют после суда [как козла отпущения], либо оставят в деревне на каких-то условиях, и тогда он сможет как-то да жить, может быть найдет пить, зная, что никто не сможет истоптать прошлого сильнее, чем они сами, чем это пошлое, и тогда бы...
Так устал.
Так больно.
На грани терпения.
Вот только может ли, захочет ли жить тот, кто состоял когда-то из сплошной любви и желания быть нужным? Тот, кто по просьбу, указке, установке, от необходимости выразить, но невозможности сделать это, перевернул свою абсолютную любовь до абсолютной ненависти? Это, в самом деле, одно и то же чувство: оно одинаково сжигало и делало неважным все остальное, разъедая и разрушая, оставляя на месте себя одинаковое ничего; нет предела доказательства любви, нет предела доказательства ненависти. Предел есть лишь у человека. У его разума, головы и тела. У его времени. У мира, что кругом. И если от самой сильной любви перейти к любой, всепоглощающей ненависти, возможно ли окатиться обратно, до жизни, застрять где-то между, чтобы без перегибов? Стремиться и тратить себя на что-то еще? Жить после того, как любовь, что преобразовалась в ненависть, нашла своё выражение, выплеснулась и должна была уйти в пустоту вместе с человеком, что сделал это в конец-то концов? Уже хотя бы после этого: смог ли Саске жить? Без Итачи, которого боготворил или желал стереть порошок, ради чего дышал каждый день, терпел ужасы, что вовсе и не казались ужасами на фоне черного пламени внутри, ради чего не умирал каждый раз, ради чего преследовал и делал всё - буквально всё - что делал? Многое ли останется в человеке после такого? Хах. А что, если собрать руками пепел от любви-ненависти, черной и воплощенной, да обратить её снова в любовь? В такую, какой она была прежде, но в человека, которого уже и не сосалось, который практически иссяк, измельчал? Будет ли он в здравом уме, в состоянии развернуться, отступить, думать о чем-то кроме того, что в третий раз застопорило, притянуло его? Дует ли готов не прощая злодеяния за отнятое прошлое не делать его центральным злом, прощая за все остальное, за всю боль? Ведь каждая их встреча с той ночи кончалась болью; каждый раз разной, но неизменно одной и той же. Уже нет того, что Итачи мог бы сделать или причинить. Но он делал это. А Саске... Когда-то в самом деле смог бы жить без него. Не приди тот в Коноху, догадайся кто подчистить мальчишке память или направить его желание быть нужным, как клановые полицейские, во что-то иное, да какая уже теперь разница. Саске не отел ассоциировать Итачи только лишь с болью, даже даже несмотря на неё в нет самом побеждала вовсе не ненависть. Он хотел, чтобы его бог повторялся, топтался по одному и тому же кругу. Он не мог - не хотел - жить без Итачи. Не знал как, не знал зачем. Хотел бы жить с Итачи, быть с ним всегда, но не как сейчас. Способен показать ему так многое. Но... был бы. Теперь это невозможно. Ведь Итачи мертв. И единственное, на что способен Саске - это стать мертвым тоже.
Особые братья.
Проклятые братья.
Обреченные братья.
Делящие друг друга и питающиеся друг другом. Паразиты ни для кого из внешнего, другого мира.
Живущие и - важнее - умирающие друг за друга. С какого конца палки не посмотри.
Итачи, я...
Вдох. Саске деактивировал шаринган. Не важна, иллюзия это или нет. Уже не важно. Сейчас или потом они непременно кончатся, какой-то разов - вероятно даже этот - станет последним. Что же, пускай. Итачи сказал - показал - всё, что хотел. Непременно у него нашлось бы больше способов, ведь он чертов гений, чья фантазия - как сейчас видно - заточена под бытие совершенным оружием, лишенным человечности и приправленным геномом Учиха со всем вытекающим. Но время Итачи прошло. Он всё сказал. Он показал, чего желал. Жаль, что ничего больше. Жаль, что только боли. Правда, жаль. Но Саске не был Итачи, пускай и разделял его, пускай и носил его боль в себе всегда, сделав её частью себя. Ему и в любви, и в ненависти, и собранном да смешанном пепле имелось, что выказать. Всегда. Так много всего. Так много всего. Теперь твое время слушать. Дай мне один раз. Один круг. Прости, Итачи, но он будет за мной. Потому что хотя бы часть его услышит. Отзовется. А если даже нет... Саске просто сделает это. И всё. Ответ будет не важно. Нет реакции - значит ничего не будет иметь значения прежде, пора уйти. Реакция последует - её больше не сделать настоящей, не обернуть время вспять, не пустить жизнь иначе, чтобы наполнить им не беготню и существование, но жизни, а потому пора уйти.
Всё это время разница между осталась - а общепринятой реальности - одинаковой, являя собой лишь несколько шагов. Просто молча глядя на брата какое-то время, Саске поджал губы, нижнюю зажевав и прикусив. Остаточная боль по пущенному дюжину раз кругу осталась реальной, как и привкус собственной крови во рту и глотке, как и сталось по всему телу, как и пульсация в глазах и висках, как и все прочее. Вдох-выдох. Сжал кулаки и, подняв ногу, сделал шаг. Затем другой, а потом... шаги более быстрые, решительные, ни то рвано-отчаянные, ни то полные такой твердости, что то ли безумие, то ли страх, то ли какая-то особая форма пути. Картинки кругом немного мылилась из-за напряжения в глазах, из-за непривычно малого запаса чакры, из-за усталости, из-за - ха-ха - застрявших в уголках глаз слёз. Оказавшись рядом с братом и не давая ни сделать, ни сказать что бы то ни было [если надо - остановит и перехватит руки, теперь не время старшего], Саске ничего не говоря стиснул брата в объятиях. Плевать ан слабость и боль, это может быть не иллюзией, это не было - боль - иллюзией, но для Саске не существовало, мелочи, он привык огораживаться от лишнего и мелочного. Обнял Итачи так крепко, как только мог; так, чтобы компенсировать [невозможно] хотя бы минуту, секунду, мгновение. Крепко-крепко. Тепло-тепло. Итачи может быть сколько угодно лишь техникой и мертвецом, однако он собран из его праха, из его останков, с призванной из того мира его душой. Остальное не имело значения. Лоб уперся куда-то в район солнечного сплетения, вдох-выдох. Собственное сердце билось как бешеное, страдающее, такое переполненное, словно бы стремилось вытолкать и вылить всё, что в нем осталось,прежде чем опустеть. Всё, что накопилось, тому единственному, для кого и кому Саске желал - всегда - это выразить: демонстративно, громко, прямо в лицо, криком или мечом. Я здесь. Я есть. Слышишь? Обрати на меня внимание.
Может быт Итачи и наваривалось смотреть прямо в глаза, а Саске естественно не привык и отводить, не переняв от него привычку, но вместе с кровью Учиха получив возможность смотреть лишь ровно, лишь прямо, в ответ или превентивно. Всегда. Только не сейчас. Ведь в не глаз... Сейчас, когда он обнимает, вне глаз тоже может что-то быть. Можно выражать не только ими, пускай они и мерило силы, мерило выжатости, их ритуальный и жертвенный стол, на который приносится всё.
Саске вложил в эти объятия все, что в нём оставалось. Все, что должно было быть в прошлом, в настоящем, должно было состояться в будущем. Все. То. Что. Было. Его. Принадлежало. Ему. Предназначалось. Ему. Итачи.
- Итачи, я... - глухо, тихо, так ровно, что в этой обреченной ровности читался весь распекут; кажется, мальчишка всхлипнул, не в состоянии себя сдерживать. Может быть и мог бы, но точно не хотел. Это его время сейчас. Сила не дала ему ничего. Ненависть не привела ни к чем. Любовь оказалась ненужной. Саске больше не видел смысла нив чем. Он не сможет показать брату всё, что способен, ни боем, ни остатками сердца, ни жизнью - ведь тот мертв; ведь прошлое не вернуть. Смотри, смотри, смотри, чувствуй. Сколько бы они могли сделать; сколько показать. Может быть Саске и не изменил бы клан, он точно бы научил Итачи чувствовать, делая это за двоих, сколько потребует. Пускай даже целую жизнь. Он сможет лишь мстить всем подряд до тех пор, пока его не убьют. Смерть - это единственный выход в любом случае. Саске обидно. Так обидно, правда. Он сломался. Наконец-то. Совсем. Я так устал, - все ещё и все равно люблю тебя больше, чем ненавижу, - не важно, что грудная клетка и пальцы то и дело вздрагивали. Саске потерялся то ли лбом, то ли щекой о брата, просто взяв этот момент для себя. Больше ему не было нужно. Никогда. Всё было зря. Это и было всем его миром. Простые объятия и простые слезы; почти навзрыд, если бы все равно не выходило глухо. Как тогда, когда пробудил Мангеке; слезами всё по нему же, по Итачи. Иначе он не умел, иначе кровь Учиха бы не позволила, да? Какая разница. Только сжать по крепче и не отпускать ещё минуту.
До тех самых пор, пока Кусанаги - как много этих мечей, каждый разный, существовало в мире, в самом деле - одной рукой не оказался вытащен и заведен за спину брату. Туда, в противоположную от его сердца сторону, но туда, где оно у Саске. Умереть ведь можно и иначе. Это моё время, Итачи. Это мой раз. Пускай это будет их традицией. Ничья. Отточенное движение, чтобы проткнуть проткнуть их обоих длинным клинком. Если провернуть его, если надавить сильнее, если пустить по нему молнию - это будет концом. Для Саске. А Итачи останется лишь дать приказ Кабуто завершить печать, и это станет концом для него тоже. Особенных братьев не станет. Тот, кто взращивал цветок, видел то, что делал для себя; разве что-то еще имело значение? А прощение... прощение не нужно с самого начала. Потому Саске и не прощал; потому и не говорил, что простил. Они оба только и умели, что обманывать себя, затягивая в эту воронку никого, кроме друг друга. Никакой лжи. Прощения. Жизни.
Зачем им досматривать общую историю? В ней никто никогда не имел значение. Не их деревня, не их война. Нет смысла досматривать чужую вошкатню до конца. Только лишь за другом, друг с другом. Старший и младший. По итогу, в одном лишь доступном направлении.[icon]https://i.imgur.com/7SL0tWP.png[/icon]
тАТу - Космос
[nick]Uchiha Sasuke[/nick][lz]<center><a href="http://versus.rolka.su/"><b>Учиха Саске</b></a></center>эта кровь не стала козлом отпущения; эта тьма не была хаотичной.</a>[/lz]